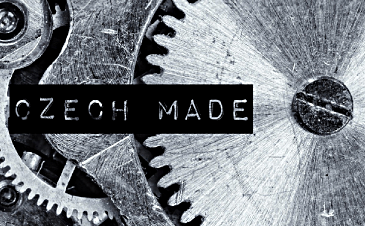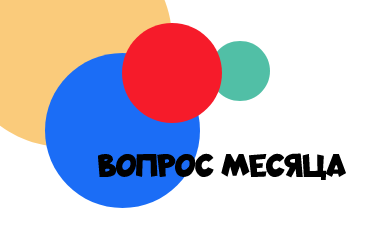Ота Павел: Смерть пракрасных косуль
А когда пришел этот Адольф Гитлер, пан Коваржик барабанил и кричал: "Приводится к сведению всех, что в этой стране учреждается протекторат Бемен унд Мерен". Мой папа тяжело переживал, что он не имел права побывать в Кршивоклате, и не будь нашей мамы, которой он боялся только чуть меньше, чем Адольфа Гитлера, он бы туда поехал уже давно.
А когда пришел этот Адольф Гитлер, пан Коваржик барабанил и кричал: "Приводится к сведению всех, что в этой стране учреждается протекторат Бемен унд Мерен". Мой папа тяжело переживал, что он не имел права побывать в Кршивоклате, и не будь нашей мамы, которой он боялся только чуть меньше, чем Адольфа Гитлера, он бы туда поехал уже давно. На третий год войны моим братьям Гуго и Иирке пришла повестка в концлагерь, и он сказал нам:
"Мальчишек необходимо перед отъездом накормить. мясом.Я привезу какую-нибудь рыбу."
Папе запрещалось ездить на велосипеде всюду, кроме работы, запрещалось покинуть без разрешения место жительства, а рыбу ловить он и вовсе не имел права, так как жил не на Ривьере, а в протекторате, окруженный вниманием полиции и гестапа. Он пошел к своему хорошему буштеградскому другу доктору Гвидо Ержабку, и тот написал ему, что из-за болезни отец не может на шахту. Гвидо и представить себе не мог, что папа собирается на уик-энд за замок Крживоклат. У Прошка отец не спал. Он только поставил в сарай велосипед и взял в корзину соломы, ночью на острове лег на нее и прикрылся непромокаемым плащом . Карел принес ему на завтрак молоко, масло, хлеб и свежеиспеченые маковые булки от пани Каролины. Отец мутил воду и ловил маленьких рыбок для больших угрей, готовил лески и складной садок. Крестьяне из Буштеграда пообещали ему за угоря мясо и сало с убоя свиньи. Но стояли прекрасные светлые, а значит, плохие ночи. Луна светила в полную силу, как для поэтов, а угори, ночные разбойники, наверное, боялись и не брали. Папа уже отчаивался, целые ночи не спал и насаживал рыбок и червяков на крючки. Утром лески были пусты, и он бил себя по голове и проклинал этот засраный мир. Карел, наблюдая, как он варит на костре малиновые кнедлики, сказал:
"Не горюйте, повезете муку и масло!"
"Карел, мне необходимо мясо для моих парней. Им нужно еще раз по-настоящему поесть мяса."
"Пан Лео, мяса у меня нет, пришлось бы для вас убить корову. Если хотите, я эту Буренку сегодня зарежу."
И в это время отец сказал то, о чем наверняка думал уже дома, что не сказал маме и из-за чего в основном-то сюда ехал.
"Карел, принеси мне косулю."
Это были одновременно и просьба, и приказ. Карел на это ответил:
"С того времени, как пришли немцы, я с Голаном в лесу не был. Можете считать меня трусом, но у меня шесть детей. Сейчас за это смертная казнь."
"Ясно, Карел. А дашь мне Голана?"
"Не знаю, пойдет ли с вами. До сих пор еще ни с кем не шел."
"Со мной пойдет."
"Если пойдет, тогда дам."
"Я приду за ним, Карел, когда настанет нужный момент."
Карел Прошек уходил, опустив плечи, все это было слишком жестоко для него. Мой отец постелил в камыше непромокаемый плащ, лег на него и просматривал бабушкиным театральным биноклем косогор. Прошел день, два. Косуля не приходила. Отец пил молоко из бидона, что приносил ему Прошек. С Прошеком не говорил, между ними будто выросла стена.
"Пришла?"
"Не пришла."
Это было все. Настал последний день, когда могла прийти, потом папе нужно было уже ехать. Он лежал в камышах прижимал глаза к маленькому биноклю, из его покрасневших глаз текли слезы усталости и злости. Природа решила быть против еврея, эти ясные лунные ночи, эти ночные водяные змеи и сейчас лес с тихими дубами, в которых даже белки не видно. Пополудни уснул, шапка у него сдвинулась на затылок, бинокль бабушки Мальвины упал в камыш.
Он проснулся к вечеру, в то предвечернее время, когда насекомые куда-то улетают, коров гонят с лугов домой и рыба начинает брать. Папа протер глаза. Напротив на косогоре совсем близко паслась косуля, в последний момент ее послал сюда, вероятно, еврейский Бог. Отец схватил бинокль и рассматривал ее. Прекрасные рожки, прекрасней, чем все те, что до войны он видел на замке Кршивоклат. Это была прямо божественная косуля. Ее большая голова была посажена на сильной, почти оленьей шее, она вся горела необыкновенным рыжим и золотым цветом, будто пришла из жгучего пекла, а не от Господа Бога. Папа, когда бродил болотистой заводью на другую сторону, то чуть не утонул, к перевозу прибежал еле дыша и весь черный. Прошек ему навстречу:
"Что вы там вытворяли?"
"Карел, где Голан? Там исключительный экземпляр, косуля как теленок."
"Пан Лео, на вашем месте я бы этого не делал. Пополудни здесь проходили немцы, куда-то в лесничество. Целая группа.С маленькими пулеметами на шее."
"Ты говорил, что дашь мне эту свою собаку."
"Если пойдет с вами. Голан!"
Голан вылез из-под дров. Встал и смотрел на Прошека.
"Пойдешь с ним и будешь делать то, что он тебе скажет! Понял?"
И отцу:
"В конце возьмете его голову в руки и скажете: Голан, беги! Потом уже не ваша забота."
Прошек пошел к дому и закрыл за собой двери, чтобы Голан понял, что теперь у него другой хозяин. Голан сел и рассматривал папу, покрытого грязью, в жизни он не видел такое страшилище. Потом узнал его, завилял хвостом, встал, и папа думал, что победил. Но ошибся. Голан опять сел и ждал, что отец ему, как обычно, бросит пару пражских сосисок.
"Голан, пойдем со мной. Ты ведь помнишь, я возил тебе сосиски. Идем, друг."
Голан сидел, моргал глазами и продолжал рассматривать моего отца. Было ясно, что он с ним не пойдет, никогда ни с кем не ходил. Мой папа снова начал просить его, так он не просил никогда никого, но напрасно. Он называл его "Голан, Голанечек", но ничего не помогало. Отец начинал отчаиваться и был уже на краю того состояния, которое называют сумасшествием. Он вынул из кармана маленькую полотняную звезду ниОЕ, показал ее Голану и закричал:
"Я сейчас жид и никаких сосисок у меня нет. Самому бы былонужно. Я жид, и мне нужно для моих чудесных парней мясо, а ты должен мне его достать!"
У него потекли слезы, он повернулся и пошел к тропинке, которая вела на остров. И посылал Прошека и Голана ко всем чертям. Он решил идти дальше, уже никогда не видеть этого белого домика, свернуть брезент, взять всю утварь и уехать домой безо всего. Но в начале тропинки он все-таки не выдержал и обернулся. Глаза собаки и человека встретились. Они смотрели друг на друга долго, кажется, целую вечность, свет в них погасал и снова зажигался, а что они говорили, так никто и не узнает, потому что оба умерли, а если бы были живы, все равно бы никто не узнал, потому что и сами они не знали. Может быть, ругали собачью жизнь, может быть, еврейскую, но все это только может быть. Голан встал, потянулся и лениво, как обычная собака с перевоза, пошел к моему отцу, будто принадлежал ему всю жизнь. На тропинке он преобразился в волка.
До острова уже было недалеко. Несколько грабов, потом клочок тоненьких берез с листьями болотного цвета и вот уже дубы. Собака остановилась. Увидела косулю. Еще можно было вернуться, Голан бы это сделал. Но папа взял его голову в ладони и зашептал ему убийственные слова:
"Голан,беги!"
И Голан побежал. Выбрал направление и летел почти по воздуху между дубами. Потом мчался пригнувшись и в последних метрах отец потерял его из виду, он крался в высокой траве. Папа забыл об осторожности и о том, что может спугнуть косулю, и шагал, очарованный, все дальше и дальше. А потом увидел, как собака выскочила, и услышал косулю, как она мекнула. Голан уже несколько лет так не охотился и косулю просто минул. Вскочил ей на спину и соскользнул с нее назад и вниз.
Мой папа оперся о дуб, не имея сил уже куда-то идти и что-то делать. Он видел тихую сцену, но для леса очень шумную. Сипели звери, осыпался склон, трещали старые ветви, в кронах дубов кричали птицы. Косуля была еще мощнее, чем показалась с острова. Она скакала к реке, будто ее подбрасывала пружина.
Примерно в двадцати метрах от реки Голан прыгнул во второй и последний раз. Косуля перековырнулась, как заяц после полного попадания дробью. Но она была еще жива. Еще что-то происходило, оба тела катились, перевертываясь, со склона и зеленая трава поздней весны красилась кровью.
Около реки косуля уже не двигалась, а Голан стоял над ней. Мой папа вспотел с головы до ног. Он оторвался от дуба и хотел спуститься к реке. И вдруг увидел двух мужчин, отгонявших пса. Отца начало трясти, он вспомнил о немецких автоматчиках, которых, наверно, уже нет перед белоснежным домиком лесника. Но эти два были рыбаками, на их спинах были удочки, как у других бывают ружья. Они отогнали собаку, вынули ножи и начали с какой-то спокойной естественностью свежевать косулю, будто она принадлежала им.
Голан вернулся со свешаными ушами, как после порки, и с виноватыми глазами. Грустными они пришли на перевоз, Карел Прошек, увидав пустой рюкзак отца, приветствовал их почти радостно:
"Так рогатой там уже не было? Улепетнула?"
Мой папа рассказал ему, что случилось. Дядя Прошек никогда бы не перенес, если бы кто-нибудь у него стащил рыбу из силка, не говоря уже о косуле. Да и понимал, что зашло слишком далеко то, в чем он сначала не хотел участвовать, и во что наконец оказался втянутым. Он сказал:
"Слушайте меня внимательно! Вы пойдете по тропинке, а я под вами, будто что-то ищем. Только скорее! Собаку оставим здесь."
Они пошли, почти побежали, а у косогора мертвых косуль Прошек начал кричать:
"Пан лесничий, здесь это было!"
А отец отвечал, как плохой актер-любитель:
"Да, могло бы быть здесь."
После этого они услышали кромкий топот и увидели, как оба рыбака бегут вверх по реке к Разведчику, к течению, где всегда брали пармы, и где можно было перебродить и бежать от страха дальше, хоть до страны Трамтарии. Прошек подошел к косуле. Она была выпотрошена, освежевана и выстлана еловыми веточками, как в магазине ДИЧЬ, видно было, что делали это специалисты. Недалеко лежала голова с закрытыми глазами и с прекрасными большими рожками. Прошек еще раз оглянулся в сторону рыбаков и сказал:
"Большое вам спасибо, ребята."
Они запихали косулю в рюкзак, и тут-то в лесу раздались первые выстрелы. Немцы начали охоту. Выйдя на тропинку, они побежали и попеременно несли рюкзак. На перевозе они его спрятали на чердак, и папа спал последнюю ночь на острове. Не спал, всю ночь наблюдал за молчащими звездами и ясным месяцем, а вдоль острова текла река, где-то охотилась выдра, и ему было так хорошо, что он был здесь и что все вышло так, как он хотел. Перед рассветом он выехал с перевоза, бедный Прошек где-то достал ему на дорогу сотню сигар. На багажнике была мука, масло, ватрушки, а в рюкзаке косуля, голову с рожками он оставил Прошеку. Выйдя на гору, он поехал по извилистой дороге вниз к городку Кршивоклат. В городке было полно немцев. Потеряв голову, он хотел убежать от велосипеда, но какая-то женщина сказала ему:
"Господин, вы весь в крови."
Эта чешская женщина, имя которой он не знал, позвала его домой, они с мужем вновь завернули косулю, сварили отцу кофе, чтоб подкрепить его в дорогу, а пятна на одежде между этим она выстирала. И только после этого мой милый папа помчался дальше и был какой-то спокойный, он знал, что после того, что он пережил в кршивоклатских лесах и здесь, ему повезет и сегодня, и завтра и ничего не случится.
В Буштеград он приехал пополудни, и косуля была справедливо разделена. Одну заднюю ногу мы дали пекарю Благе, он был к нам очень добр во время войны, другую в поместье Бургровым, они были еще добрее, а остальное мама замариновала в такой красивой керамической лохани и готовила моим братишкам Гуго и Ийрке подливы и бифштексы, это были ее фирменные блюда. Парни наедались на все будущие годы, чтоб выдержать Терезин, Осветим, Матгаузен и походы смерти в тридцатиградусном морозе и таскание камней по матгаузенским лестницам в тридцатиградусной жаре и все эти прекрасные штучки, выдуманные для них немцами. Гуго вернулся, казалось, в порядке. Йирка приехал из Матгаузена с весом в сорок килограмм и полгода умирал от голода и мучений, прежде чем начал снова жить. Он никогда мне ничего не рассказывал, только однажды, когда мы заговорили об этой косуле, сказал:
"Может быть, именно эта косуля спасла мне жизнь. Может быть, этих последних кусков настоящего мяса мне и хватило как раз до конца."
Дядя Прошек голову косули выпрепарировал и повесил ее над дверьми своего снежно-белого дома. Сделал то, что не было в согласии с его принципами, а лесникам рассказывал, что эти прекрасные рога ему послали с Альп. Своим детям и внучатам говорил, что, учитывая все обстоятельства, ясно, насколько охота на эту косулю была опаснее, чем охота на диких зверей в Африке. И он обещал им, что как-нибудь расскажет об этом. И не успел. И рожки с косули не отнес на мой милый замок Кршивоклат, как обещал мне, кто-то украл их, потому что Голан уже не жил.
Дядя умер вскоре после него, когда уже кончилась война, все уже было позади. Когда я приехал на его похороны и на берегу играла капелла песню о верном перевозчике, а его в большом черном гробу несли на его самую старую лодку, на которой он перевез на незабудинскую сторону десятки мертвых друзей, я уже все понимал и плакал как никогда в жизни. Он лежал в гробу с красивыми усиками под носом, бледный, как сама тетка смерть. Его везли на другую сторону, река текла под нами, как течет миллионы лет, а меня не могли утешить. Я уже был настолько взрослым, что знал, что хороню не только дядю Прошека, а все свое детство и то, что с ним связано. В этом гробу был и настоящий английский футбольный мяч, и холодное пахтанье, и маринованная рыба, и мясо косули, и пес Голан, и пражские сосиски, и грамофонная пластинка ТЫСЯЧА МИЛЬ.
Ота Павел: Смерть пракрасных косуль.
Из цикла рассказов Фиаловый коузелник.
Млада фронта. Прага, 1977 г. С. 32-33, 34-40
В рубрике был использован перевод, опубликованный на веб-сайте www.prag.ru.