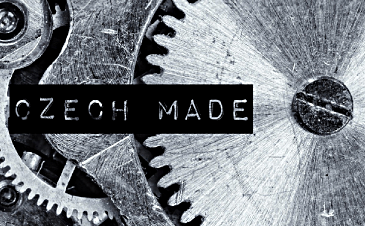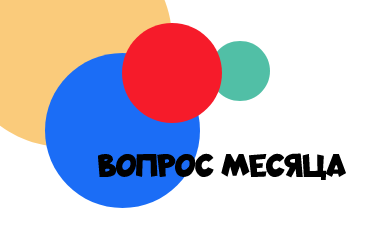Дирижер Семен Бычков о чешской свободе и чешской музыке
С октября 2018 года Семен Бычков, всемирно известный американский дирижер и представитель российской музыкальной школы, стоит за дирижерским пультом Чешской филармонии.
Его появление на этом посту вызвало в музыкальном мире настоящий взрыв эмоций, ведь после того как маэстро оставил пост главного дирижера в Симфоническом оркестре Кёльнского радио, его безуспешно пытались заполучить симфонический оркестр ВВС и Нью-Йоркская филармония.
Однако для Чешской филармонии Семен Маевич решил сделать исключение. Решение было тем более ответственным, поскольку он принял эту дирижерскую палочку после кончины знаменитого чешского музыканта Иржи Белоглавека, а тот, по словам генерального директора филармонии Давида Маречека, «изменил ее с самых основ». Именно под руководством Белоглавека Чешская филармония подписала важнейшие звукозаписывающие контракты, записала все симфонии Дворжака, а музыканты стали играть с бóльшим воодушевлением.
Из списка претендентов оркестранты сами выбрали именно Семена Бычкова, который сегодня называет Чешскую филармонию «мостиком между восточной и западной культурами». Несмотря на то что сам музыкант предпочитает поздний романтизм – Джузеппе Верди, Рихарда Штраусса, Рихарда Вагнера, репертуар Чешской филармонии остается разнообразным, в нем есть место и любимому Бычковым Чайковскому, и чешской музыке.
В январе оркестр под его управлением сделал студийную запись цикла симфонических поэм «Моя родина» Бедржиха Сметаны, а 20 февраля состоялся концерт чешской студенческой филармонии, когда Семен Бычков впервые руководил юными музыкантами.
– Семен Маевич, расскажите про молодежь. В чем разница между молодыми и взрослыми музыкантами?
– Молодые все играют в первый раз в жизни. Они много занимались своими партиями, учили, готовились, но впервые играют великую музыку вместе. Их можно сравнить с детьми, которые открывают для себя мир. И у тех, в ком есть постоянное стремление открывать для себя новое, оно остается, не исчезая всю жизнь. Некоторые считают, что знают уже все, и этим довольны (или недовольны), а у молодежи такого нет, для них все – открытие. Когда они открывают музыку, то делают это в тот момент, когда садятся в оркестр играть. Они слышат то, что не могут услышать на пластинке или на концерте других оркестров, или когда занимаются дома. Они вдруг оказываются в сердцевине океана звуков, а это совершенно другое ощущение. Нужно еще привыкнуть плавать в этом океане.
– А как искать дорогу в этом океане, по какому навигатору?
– Постепенно. В каждую секунду ты что-то открываешь для себя из партитуры сочинения. Представьте, что каждый из музыкантов играет только свою партию и видит только ее, а не полную партитуру. Поэтому для них открытие – коллега, играющий на кларнете, альте или контрабасе. Происходит что-то другое и невероятно важное. «Ага, значит, в тот момент, когда я сам играю, я должен слышать и коллегу!»
Первое, что надо понять и найти – это характер музыки, то, о чем она рассказывает, ведь в каждом сочинении заложена история. Сначала ты должен попытаться понять, что это за история, и после этого задать вопрос: «А так ли это? Может быть, совсем не так?» И когда ты все поймешь, нужно найти возможность эту историю рассказать. Что, почему и как – вот три самых главных слова. В отличие от коллег, которые уже много раз это играли, молодые музыканты должны найти путь – естественно, им нужно в этом помочь, как выразить музыку. Как рассказать историю не по одиночке, а вместе с коллегами, и для этого каждый должен знать, что другие должны делать.
Предназначение дирижера – распознать и осознать
– Вы как-то говорили, что иногда можно лучше понять произведение, если пообщаться с его автором. Всегда ли это идет на пользу дирижеру, или лучше все же работать самостоятельно, а лишь потом представить на суд сочинителя результат своего труда?
– В своем вопросе вы затронули очень важную тему: в чем заключается обязанность интерпретатора, то есть исполнителя? В том, чтобы интерпретировать сочинение, которое было создано кем-то. Если ты не хочешь знать этого человека, не интересуешься тем, что было у него в душе, в сознании, когда он это сочинял, каким образом он все слышал внутри, перед тем, как написать на бумаге, то тогда ты не можешь быть интерпретатором, ты должен сам стать композитором и создателем. Если так происходит, то получается, что вместо того чтобы служить чьему-то созданию, ты им пользуешься.
– И когда вы поняли, что вы – именно интерпретатор?
– С тех пор, как начал учиться музыке. Мне было пять лет, когда я начал заниматься на фортепиано и должен был интерпретировать сочинения, написанные Бетховеном, Моцартом, Бахом и так далее. С самого начала мы – интерпретаторы.
– И увлекало вас именно это – поиск смысла, сути произведения?
– Безусловно. Вы знаете, в моей юности был момент, когда я немножко сочинял песни – и поп-композиции, и более классические вещи. Но я очень быстро понял, что мое дарование заключается в интерпретации сочинений других людей, тех, у кого есть дар создания, и он выше нас всех. С другой стороны, то, что было полезно в сочинении музыки, так это осознание того, что необходим талант, который дан очень малому количеству людей.
– То есть нужно вовремя понять и ответить себе на вопрос: «Могу ли я сочинять хорошую музыку»?
– …И понять также процесс сочинения, через который проходят все творцы, причём видно, в какой борьбе рождаются произведения. Они не создаются сами по себе. Это – невероятное усилие, и оно должно быть поддержано особым талантом, так же, как интерпретация должна быть поддержана талантом интерпретировать. Нельзя забывать, кто является Богом в этом процессе – не интерпретатор, а создатель. А мы – служители создателей. И в этом нет ничего унизительного, наоборот, это очень благородная роль – служить кому-то. Вы знаете, каждый в жизни кому-то служит, и каждому кто-то служит.
Пандемия = Пространство для анализа
– Что вы говорите молодым музыкантам сейчас, когда им приходится развиваться во время карантина и строить карьеру в онлайн-пространстве? Как не терять хватку, вкус к творчеству?
– Вы знаете, самое удивительное, что независимо от ситуации, в которой существует наш мир, музыка продолжает жить сама по себе. Однако музыкальные произведения связаны со всеми ситуациями, в которых оказываются человеческие существа. Самая великая музыка потому и великая, что она вне времени. Конечно, сейчас правит бал пандемия, и в этот момент я не могу дирижировать такое количество концертов, как раньше, а даже когда дирижирую, то без публики в зале.
Но ведь есть и другая публика – все благодаря технологиям. Мы не видим людей, но они нас видят и слышат. И то, что мы можем им дать сегодня, для них невероятно важно – как кислород, ведь они не могут просто пойти на концерт или на спектакль оперного театра.
И еще. Что, как вы думаете, я делаю, когда сижу дома и смотрю на свою партитуру, слушаю ее внутри себя, задаю себе вопросы, так это звучит или иначе? Какое имеет к этому отношение пандемия? Она дает мне пространство, в котором я могу сидеть и смотреть в партитуру столько, сколько мне нужно, и не думать, что завтра я должен броситься в аэропорт и не пропустить свой рейс.
– Но как же понять, насколько хорошо вы справились с задачей интерпретатора в этот раз, когда вы видите перед собой только музыкантов, но не ощущаете обмен энергией с живой публикой?
– Конечно, та энергетика, которую дает присутствие публики в зале, невероятно важна, это своего рода коммуникация. С другой стороны, представьте себе, что мы записываем пластинку без публики. Что мы делаем в этот момент? Мы отдаем все, что у нас есть, а после этого идем в кабинку звукозаписи и слушаем. Это все равно что посмотреть на себя в зеркало. В русском языке есть поговорка: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». В этом смысле микрофоны – самые суровые судьи, но одновременно и лучшие учителя. Поэтому мы слушаем, возвращаемся на сцену и начинаем играть снова, пытаемся улучшить то, что мы только что сделали, и так до тех пор, пока это не становится убедительным. Мы стараемся сделать так, чтобы произведение нас самих убеждало в нашей правоте.
Про то, как стать платаном
– Про убеждение: в интервью «Российской газете» вы однажды сказали, что дирижер должен звучать убедительно в каждой культуре, чтобы он не казался туристом. Есть ли на сегодня какие-то культуры, в которых вы до сих пор себя чувствуете не совсем своим?
– Безусловно, есть те культуры, в которых я был бóльшим туристом, когда начинал. Именно поэтому я невероятно благодарен своей судьбе, которая сначала меня родила в России, а после этого занесла в Америку, не на неделю, посмотреть Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, а жить. А после – во Францию, где я живу уже больше 30 лет, и в Германию, где я имел свой театр в Кельне и оперный театр в Дрездене. И, наконец, в Прагу – в Чешскую филармонию.
Каждый из нас имеет корни. В каком-то смысле каждый человек – он как дерево. Посмотрите на маленький кустик – у него маленькие корни, а у дерева, которому больше ста лет – широкий ствол и невероятные корни, их много, и они расползаются далеко от самого ствола.
Есть такое дерево – платан. Платанов много в нашем саду в Париже. И что интересно, корни платанов расползаются и отвоевывают территорию у цветов, например. Для музыканта, который интерпретирует сочинения разных культур, очень важно обрести «корни платана», чтобы не оказываться туристом, у которого местные слышат невероятный акцент. В этом сегодня для меня заключается самая большая задача и сложность, ведь каждый из нас не может и не хочет быть в клетке из собственной культуры. Нас интересует огромное количество музыки из разных культур, но для того чтобы ее интерпретировать убедительно, нужно каждую культуру в себя впитать. И таким образом, твои корни становятся все больше, ярче и богаче, при том, что самый первый корень по-прежнему находится в той структуре и той стране, в которой ты родился. В моем случае это, конечно, Россия.
Подноготная бессмертной музыки
– Когда у вас случилась любовь с музыкой Чайковского?
– В тот момент, когда я начал играть на рояле «Времена года» Чайковского. Сразу после я открыл для себя мир его «Онегина», и «Пиковой дамы», и симфоний, и эта любовь никуда не ушла, она только обогащалась жизненным опытом. Опытом концертов с этой музыкой, ее постоянного переосмысливания. Например, «Патетическая» симфония (Симфония № 6 си минор, соч. 74 – прим. ред.) представляет собой сложную дилемму. Как думаете, чем она заканчивается, принятием смерти или протестом против нее?
– Каждый слушатель решит по-своему.
– Безусловно. Но для глубокого понимания важно попытаться узнать всю информацию, которая существует. А существует очень много фактов, и не только официальных версий, вроде того, что Петр Ильич Чайковский отравился, выпив воды и заразившись холерой. Важно еще знать, что в то время не было эпидемии, а когда его хоронили, гроб был открытым, и люди целовали усопшего в лоб. Если бы он и впрямь умер от холеры, никогда бы такого не позволили. К тому же ему было всего пятьдесят три года, и он не был смертельно болен. В общем, нужно быть эдаким детективом, Шерлоком Холмсом, чтобы попытаться разобраться, почему исчез человек, и перед тем, как он исчез, что он хотел выразить, например, «Шестой симфонией».
– Именно благодаря таким исследованиям можно считать эти произведения бессмертными? Потому что в уме каждого слушателя они получают новое прочтение, открываются их новые грани?
– Безусловно. Один исследует информацию – приходит к определенному выводу. Другой исследует ту же информацию, приходит к совершенно противоположному выводу – и это нормально, потому что музыка это позволяет. Вот в этом и заключается разница между музыкой великой и бессмертной и музыкой, которая может быть на очень хорошем уровне, но не дает тебе возможности по-разному ее интерпретировать. А раз так, то уже и загадки нет. А раз нет загадки, то и уже и неинтересно к ней возвращаться. Вот почему же мы постоянно возвращаемся к Чайковскому, Бетховену, Вагнеру и Малеру?
– Потому что всегда есть, о чем дискутировать.
– И чем дольше мы живём и думаем об этом, тем интереснее. Музыка ведь остаётся той же самой, а мы меняемся.
«" Родина" Бедржиха Сметаны для меня невероятное откровение»
– А в чешской классике есть что-то, что вызывает в вас чувства, схожие с эмоциями от музыки Чайковского?
– Безусловно. Антонин Дворжак. «Má vlast» («Моя родина») Бедржиха Сметаны. «Má vlast» – для меня невероятное откровение, потому что я никогда близко этим сочинением не занимался. То руки не доходили, то не думал об этом. В тот момент, когда меня пригласили возглавить Чешский филармонический оркестр, стало ясно, что без исполнения такого сочинения как «Má vlast», занимать этот пост я не имею никакого права. Я начал изучать партитуру, читать о Сметане. И в какой-то момент обнаружил, что произведение становится своего рода навязчивой идеей, от которой я избавиться не могу. Меня это очень тревожило, я все пытался понять, почему же меня это так задевает и трогает. Ведь я не чех, не родился в Чехословакии, у меня нет опыта работы с этим сочинением, я не прожил с ним всю жизнь, как, например, с симфониями Бетховена или Брамса. Я никак не мог никак понять, в чём дело… И вдруг понял! «Má vlast» – это ведь «Моя родина». У каждого, в любом языке, есть понятие Родины и Отечества – мечта о том, какой мы хотим эту родину видеть, боль от того, что это не всегда наш личный идеал. В этом понятии содержится конфликт, и мне сразу стало ясно, почему это сочинение меня так трогает.
– Как бы вы охарактеризовали чешскую классическую музыку?
– Музыка не оторвана от жизни общества, так что достаточно увидеть, испытать, почувствовать определенную нацию такой, какая она есть. Чехословакия – сегодняшняя Чешская Республика – всегда оказывалась под доминированием другой, более сильной страны. Сначала она была частью Австро-Венгерской империи, в 1918 году стала свободной. Свобода продолжалась очень недолго, до тех пор, пока нацистская Германия не оккупировала Чехословакию. Когда война подошла к концу, Чехословакия стала одной из стран Варшавского договора и оказалась под контролем Советского Союза. В 1968 году советские танки вошли на улицы Праги, так как руководство СССР не хотело, чтобы Чехословакия развивалась по собственному пути. Все это происходило совсем недавно. И только в тот момент, когда случилась «бархатная» революция, и Берлинская стена рухнула, а все страны Восточной Европы стали независимыми – вот тогда Чехословакия, а затем Чешская Республика оказалась свободной по-настоящему. Свободной жить так, как она хочет.
А теперь давайте вернемся к музыке. XIX век, Бедржих Сметана… Язык, да и все остальное, что доминировало тогда в Чехословакии, не было чешским. В этот момент начинаешь понимать, в чем заключается дух музыки Сметаны: идея независимости, идея национализма, который должен восприниматься в правильном смысле этого слова – не шовинизма, а привязанности к своим корням, истории, культуре, языку, национальной семье. То же самое можно сказать о Дворжаке, Яначеке, Мартину и всех остальных композиторах – им свойственна невероятная привязанность к тому, что является твоим.
Пандемическая тональность 2020
– Если бы вас попросили подобрать музыкальное произведение, чтобы охарактеризовать ушедший странный год, какое бы вы выбрали?
– Двадцатый год – это пандемия. Вы знаете, невероятно сложно ответить на этот вопрос. Попробую ответить на него иначе. Пандемия началась почти год назад, закрылись концертные залы, музеи, театры. А затем потихоньку начались маленькие вспышки артистической деятельности в мире. Помню, мне позвонили и попросили продирижировать оркестр Радио во Франкфурте. Мое первое желание было – продирижировать музыку Бетховена. Меня спросили, почему. Очень просто. В этот момент мир настолько подавлен, что людям необходимо что-то, что напомнит им о той жизни, которой мы хотим жить. И это постоянно присутствует в духе музыки Бетховена. Я бы добавил вот еще что – каждое поколение, включая наше, думает, что те трудности, через которые мы проходим, самые сложные в истории, что никому и никогда так тяжело не было, как нам. Но ведь это же неправда! При том, что мы очень многого не можем себе позволить, и немало людей страдают эмоционально, физически и материально, на нас не падают бомбы, которые падали на наших родителей. То, через что они прошли, нам не довелось и, будем надеяться, не доведется испытать. Так что не нужно забывать: когда дождливо, солнце всегда возвращается. Точно так же в солнечный день нам кажется, что это навсегда. Но нет, в какой-то момент дождик вернется.
Семен Маевич Бычков родился 30 ноября 1952 г. в Ленинграде. В его семье всегда было место музыке: брат Бычкова – американский дирижер Яков Крейцберг, а их прапрадед служил дирижером в Одесской опере. Семен Бычков учился в Ленинградском хоровом училище имени М. Глинки и в Ленинградской консерватории, в классе профессора И. Мусина. В 1974 г. эмигрировал из СССР. В 1980-е гг. он возглавлял ряд оркестров США, а с 1989 по 1998 год был главным дирижером Парижского оркестра. Работал с филармоническим оркестром Санкт-Петербурга.
В послужном списке музыканта – работа с симфоническими оркестрами Нью-Йорка, Бостона, Чикаго и Сан-Франциско, оркестром Баварского радио, Мюнхенским и Лондонским филармоническими оркестрами, амстердамским Concertgebow. Он занимал пост главного дирижера Симфонического оркестра Кёльнского радио (WDR) и дрезденской Semper-Oper.