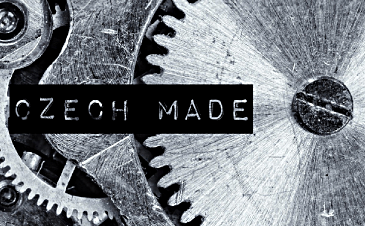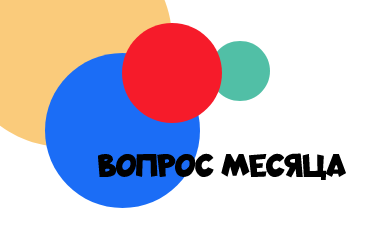Гавел и пример Чехословакии – взгляд из Петербурга
В дни юбилея Вацлава Гавела, которому 5 октября исполнилось бы 80 лет, во многих странах мира чешского президента вспоминают и как диссидента, и как философа, и как писателя, и как политика, ставшего символом перемен не только для Чехословакии, но и для всего социалистического лагеря. Как воспринимали «бархатную» революцию и ее лидера в СССР и перестроечной России? Почему русские и чехи после отказа от социалистической модели пошли такими разными путями, а «русский Гавел» так и не появился? Об этом мы разговариваем в стенах Европейского университета на Гагаринской улице Санкт-Петербурга с известным экономистом и политологом, профессором Дмитрием Травиным.
«Пожалуй, да. Я не скажу, что Валав Гавел мог что-то изменить в сознании российских граждан, но интеллигенция в России, вернее, в СССР, на имя «Гавел» очень реагировала. Это был некий символ, образец, пример того, что человек из страны с авторитарным восточноевропейским режимом может стать лидером, переломить ситуацию. Для нас это, конечно, было значимо».
– Вы помните тот момент, когда вы узнали о «бархатной» революции? О Гавеле, возможно, вы знали раньше. Какие в тот момент у вас были настроения, ожидания? Вы верили или нет, что из этого что-то выйдет?
«Сейчас мне сложно сказать, узнал ли я о Гавеле раньше этих событий. Но в целом 1989 год стал годом «бархатных» революций в Восточной Европе. Это, конечно, нас затрагивало и интересовало. Могу сказать, что нас, в целом, интересовали события в Чехословакии, начиная с 1968 г. Еще до 1989 года, в 1986-м или 1987-м, я, тогда еще молодой преподаватель, стал в Ленинграде членом интересного интеллектуального клуба «Синтез», откуда вышло много очень известных сегодня в России людей. И одним из первых докладов, который сделал прекрасный историк Николай Преображенский, стал доклад о чехословацких событиях 1968 года, о том, что и как там происходило. И с этого момента я начал очень интересоваться Чехословакией, потом и Польшей, и в этой связи следил за событиями «бархатной» революции. В 1989 году я не верил, что в нашей стране могут происходить подобные масштабные события, но ожидал, что советский политический режим станет мягче, Горбачев обеспечит умеренную свободу слова, умеренную либерализацию, будет ликвидирован «железный занавес»…
– Вас не удивило, что страны соцлагеря пошли по другому пути? Что там смог прийти к власти Вацлав Гавел – лидер, который не принадлежал ни к коммунистической номенклатуре, ни к силовым структурам и был из оппозиции в ее настоящем понимании? Вы ждали, что нечто подобное может случиться и в Советском Союзе?
«У меня было два этапа восприятия этих событий – сначала пессимистический, потом излишне оптимистический, и в этом я был похож на многих советских интеллектуалов. Сначала я мог ожидать, что события 1989-го года будут похожи на события 68-го – то есть какая-то реформаторская линия сверху, вместо консерваторов компартии ЧССР придут какие-нибудь дубчики, и когда ситуация стала развиваться намного быстрее, это было неожиданно – рухнула Берлинская стена, выборы в Польше прошли с потрясающим результатом. Все это шло как снежный ком. И когда у нас в Союзе началась демократизация – тут тоже можно говорить о 1989-м – годе работы Первого съезда народных депутатов, – я перешел от консервативной сдержанности к несколько необоснованному оптимизму. Мне показалось, что и у нас интеллектуалы могут стать лидерами, и у нас может появиться собственный Гавел. Тогда на съезде блистал Андрей Дмитриевич Сахаров, который, конечно, был уже немолод, но появились Афанасьев, Собчак, Гавриил Попов, из молодых – Сергей Станкевич, и мне казалось, что кто-то из них мог бы стать настоящим политическим лидером.– А проходившие тогда реформы в Чехословакии могли служить каким-то примером для России?
«До 1989 года мы смотрели на восточноевропейские примеры. Прежде всего, на Чехословакию 1968 г., где реформы были начаты, хотя и шли очень недолго. Вернее, они были декларированы, было более-менее ясно, чего хочет Чехословакия, однако советские танки так и не дали их реализовать. Тогда речь о переходе к серьезной рыночной экономике не шла, и главный чешский реформатор Отто Шик был очень осторожен. По его мемуарам видно, что он сам довольно поздно сформировался как серьезный экономист, хотя он долго учился, развивался, и если бы не советские танки, возможно, Чехословакия в 1970-е годы перешла к более радикальным реформам, события «Пражской весны» были попыткой реформирования социализма и не более того».
– То есть в СССР 1989-90 гг. могло произойти нечто подобное попытке реформирования Чехословакии в 1968 г.?
«Старый чехословацкий опыт был примером не столько для нас, молодых, сколько для поколения Горбачева, Рыжкова, Лигачева. Смотрели, во-первых, на Чехословакию, во-вторых, на Югославию – даже в большей степени, поскольку югославы могли осуществлять реформы в течение многих лет. И, конечно, на Венгрию, где был не столь радикальный подход, зато Янош Кадар умело маневрировал, не допустив тех ошибок, которые сделал Дубчек в политике, и тех ошибок в экономике, которые были в титовской Югославии.– Возвращаясь к политической составляющей – когда в Чехословакии на смену абсолютно социалистическому лидеру пришел лидер антикоммунистический, несистемный, могло это послужить примером для Советского Союза и впоследствии для России?
«Советский Союз – понятие большое. Думаю, для многих интеллектуалов это было примером. Повторю – я надеялся, что у нас в 1990 г. может во главе страны появиться такой человек как, например, Юрий Афанасьев, сопоставимый по своему значению с Гавелом. Но огромный 250-миллионный Советский Союз, где миллионы людей жили в Средней Азии, вообще не понимая, что такое Европа, и что существует такая страна как Чехословакия, для них роль Гавела была нулевой. И узкая прослойка интеллектуалов никак не могла переломить консервативных настроений огромной страны. На Первом съезде народных депутатов группа интеллектуалов была в меньшинстве. Также в меньшинстве она была и среди лидеров российского депутатского корпуса, сформированного в 1990 г., хотя все-таки им удалось провести Ельцина в президенты. А потом наступили сложные времена, когда широкие народные массы перестали уважать интеллектуалов (возможно, в Чехии такого не произошло и по сей день). Если в перестройку на них смотрели с уважением и надеялись, что они выведут страну из кризиса, наличие которого тогда все признавали – даже те, кто сейчас болтает, как он любил Советский Союз, – то потом на интеллектуалов стали смотреть скептически, появилась любовь к таким как Путин, и вопрос о том, что у нас может быть свой Гавел, конечно, был закрыт».
– Позже вы следили, как проходят политические и экономические реформы в Чехословакии, а потом и в Чехии?
«Не только следил – в 2014 г. у меня вышла большая книга под названием «Европейская модернизация», в соавторстве с моим другом Отаром Маргания. Там этому посвящено несколько глав – сначала модернизация в Австро-Венгрии, затем глава о Чехословакии после Первой мировой войны, и о Чехии и Словакии после разделения.– То есть вы брали это в широкой исторической перспективе.
«Именно так, поскольку, как писал Фернан Бродель, понять модернизацию можно только в контексте долгого времени. Попытки рассматривать отдельные реформы мало что дают, поскольку меняются волны – то консервативная, то реформаторская. Я думаю, что при сохранении тенденции реформирования 1968 года Чехословакия двигалась бы от одной реформы к другой и пришла к рынку. Поскольку, как писал польский интеллектуал Лешек Колаковский: «Какой может быть социализм с человеческим лицом? Ведь крокодила с человеческим лицом не бывает!», все равно придется перейти к рыночной экономике и западной демократии».
– А как Егор Гайдар оценивал опыт постсоциалистической Европы?
«Егор Гайдар был высокообразованным человеком, и в одной из очень ранних работ, которая была подготовлена Гайдаром и его коллегами, именно Гайдар вместе с соавтором Олегом Ананьиным написал главу об опыте чехословацких экономических реформ».
– Давайте от экономики вернемся к политике, вернее, философии. В своих работах вы неоднократно затрагивали вопрос возврата в Европу и европейского начала или его отсутствия у русского народа. Почему чехи считали естественным возврат в Европу, и почему этого не произошло в России?
«Это очень важный вопрос. И чехи, и поляки (возможно, в меньшей степени), и венгры, и даже жители наших балтийских республик считали Европу своим домом и считали важным туда вернуться. Это связано, полагаю, во-первых, с историческим путем этих стран. Чехия входила в состав Австро-Венгрии – возможно, не самой эффективной, но, безусловно, европейской державы. Это было очень значимо. Второй фактор – наличие или отсутствие имперского комплекса. Малые народы после Второй мировой войны чувствовали на себе давление «старшего брата» – Советского Союза и должны были решить – «или мы европейцы, или остаемся в сфере влияния большого восточного соседа». А с таким соседом быть опасно, хотя в 1989-90 годах такой печальной эволюции российского политического режима никто не ждал. У российского народа, конечно, другой подход: «Мы великая держава, полмира покорили, и если у нас есть отдельные экономические трудности, мы можем постараться их преодолеть, не отказываясь от своего политического доминирования».