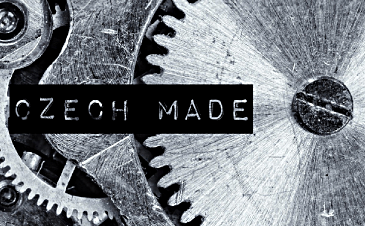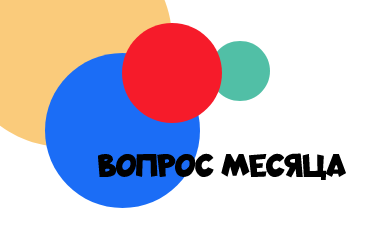Марина. От пражских офортов до марок Ватикана
В детстве график Марина Рихтерова мечтала стать орнитологом, но судьба распорядилась иначе. За плечами художницы – непростые годы пражского студенчества: она в одиночку растила дочь и нередко чувствовала себя изгоем – как русская внутри чешского мира и как художник, шедший путями мучительных поисков собственной творческой стези.
Переживания и наблюдения, пойманные в офорты и литографии, насыщены образами и загадками, в которых угадываются черты ее собственного лица. Они – свидетельства высокого мастерства зрелого периода ее творчества, а в нем обнаруживаются все новые ипостаси.
С Мариной Рихтеровой мы беседовали о переезде из Москвы в Чехию, о словах признания, которых она напрасно ждала от своего отца, о людях, подставивших плечо, о нечаянности событий, давших начало другим мощным импульсам. Что побудило ее к созданию серий личных марок, и как она стала придворным художником почты Ватикана?
Героиня нашего рассказа долго колебалась, стоит ли решаться на интервью для радио, – из-за заикания она чаще отвечает на вопросы журналистов письменно, однако, на наше счастье, опасения были отброшены, и мы можем представить вам Марину Рихтерову без посредников – человека со сложной судьбой и острым и бескомпромиссным глазом художника.
«Я переселилась в Чехословакию из-за любви, но "по принуждению"»
От Москвы, где вы родились, до Чехии, где живете без малого сорок лет, расстояние по прямой составляет свыше полутора тысяч километров. Думаю, что каждый, кому выпала судьба искать в Чехии или любой другой стране второй дом, пусть и не сразу, но начинает чувствовать, что существует еще и психологическое расстояние между странами. Оно преодолевается годами, и платить за это приходится недешево. Как это происходило у вас?
– С моим будущим мужем (Ян Тесаржик – прим. ред.) мы познакомились, когда мне было двадцать лет. Он приехал в командировку в Москву, в Институт репродукции и генетики, где работала моя мама, генетик, и на тот момент уже был довольно известным в Чехословакии ученым, считался де-факто отцом первого «ребенка из пробирки» в странах Совета экономической взаимопомощи. В Советском Союзе решили не отставать от чехов, и его позвали в Москву, чтобы он поделился опытом. Меня попросили сопровождать его в музеи и театры, и в течение этих пяти дней мы влюбились в друг друга. Потом он позвал меня в Чехословакию на двадцать дней. На этом знакомство и закончилось бы, потому что мне не разрешали выезжать к нему, а ему не позволяли приехать в Москву. В Отделе виз и регистрации, где выдавали паспорта, мне сказали, что если хочу еще раз с ним увидеться, то надо выходить замуж. Я переселилась в Чехословакию из-за любви, но «по принуждению». Выходить замуж мне особо не хотелось, но желание видеться с любимым человеком перевесило, и через год мы поженились. Мне удалось перевестись из Московского полиграфического института в Высшую школу прикладного искусства в Праге (вуз в Праге — VŠUP).
Переезд в Чехословакию обернулся суровой школой жизни
На границе советская пограничная служба надо мной издевалась. Весь мой багаж, видимо, раскрали еще в Москве, и из довольно обеспеченной невесты я в один день стала бесприданницей. Потом мы так никогда и не начали жить вместе, потому что он работал в Брно, снимал там квартиру, а я поступила в институт. Муж отвез меня в студенческое общежитие, где и оставил. Наша семейная жизнь выглядела так: мы встречались по субботам и воскресеньям в квартире у его родителей в Моравии, в Иглаве. Через несколько месяцев после переезда в Прагу я забеременела, еще через несколько месяцев муж уехал во Францию.
Из Франции Ян Тесаржик иногда наведывался в Чехословакию, потому что официально находился в Париже в командировках. До рождения ребенка Марина – в то время Тесаржикова – оставалась в общежитии, а потом на год уехала в Москву. С дочкой на руках ей предстояло продолжать учебу в любимом пражском институте.
– Так что, оглядываясь назад, я думаю, что это была очень жесткая школа жизни. У меня не было ни гражданства, ни денег, потому что моим родителям законом было запрещено пересылать деньги – они могли присылать лишь около тысячи крон в год (38 евро по сегодняшему курсу). Мне выплачивали среднюю стипендию, а мужу особо не хотелось меня обеспечивать. В Москве я считалась довольно обеспеченной девушкой, передо мной открывались карьерные перспективы, а при переезде в Чехословакию я стала «соцкой» (socka — в просторечии «нуждающийся человек», прим. ред.) И каждый в то время мог о меня вытирать ноги. Именно тогда передо мной встал выбор: либо я собираю свои немногочисленные вещи и возвращаюсь с ребенком в Москву, либо остаюсь, стискиваю зубы и начинаю работать над собой.
«Меня обвинили в том, что я променяла свою родину на ветчину с пивом»
В Московском институте меня обвинили в том, что я «променяла свою родину на ветчину с пивом» и исключили из комсомола. А учиться в институте при Брежневе и не состоять в комсомоле было практически невозможно. Так что единственное, что мне оставалось, это вспомнить, что у меня хорошая генетика, и начать над собой работать.
По словам Марины, возвращение в Москву представлялось невозможным в принципе, потому что после замужества в институте ее исключили из комсомола, и таким образом двери этого учебного учреждения оказались для нее закрыты. К тому же она считала бы это своим личным проигрышем. Когда дочери исполнилось два с половиной года, ей посчастливилось найти убежище в доме матери своей сокурсницы, писательницы Маркеты Зиннеровой – позже иллюстрациями Марины будут оформлены ее книги «Принцесса Розмаринка» и «Принцесса из черешневого королевства»... С этого времени началась ее дружба с Маркетой, которую она считала своей «чешской мамой». Благодаря этому Марина смогла вынести все невзгоды 6-летнего обучения в вузе с дочерью на руках.
– Я ходила к ней в гости на чаепития с дочкой Данушкой, когда оставаться одной в общежитии в выходные было невыносимо. В ее квартире в районе Праги Дейвице я чувствовала себя человеком, а не изгоем.
«Отец говорил, что меня следует сослать в Сибирь, чтобы я узнала, что такое настоящая жизнь»
Вам было суждено познакомиться со своим отцом Олегом Павловичем Филатчевым, известным академиком живописи, лишь в семнадцатилетнем возрасте, причем по вашей же инициативе. Какую роль он сыграл в вашем формировании, и насколько важным для вас было его мнение?
– К отцу я пришла в свои семнадцать лет, когда училась в художественном училище на отделении миниатюры и иконописи. На третьем курсе мне недоставало ни знаний, ни практики, мне казалось, что я уже не развиваюсь, и я решила, что нужно звонить Филатчеву. Я ему позвонила, сказав, что это я, Марина, и спросив, не мог бы он позволить прийти к нему в мастерскую. Он разрешил. И потом я к нему приезжала на протяжении двух лет на субботы и воскресенья со своими холстами, рисовала и занималась живописью. Отец совершенно коренным образом меня переделывал, он де-факто меня ломал. Со своей типичной насмешкой, с прищуром, он смотрел на мои работы, говорил, что это – «салон», «ненастоящая живопись», что «лучше бы он мне в руки дал чайник и сослал в Сибирь, чтобы я узнала, что такое настоящая жизнь».
И мне все время хотелось работать ради того, чтобы он меня похвалил. У меня еще не было такой целеустремленности – работать для себя самой, но он меня все равно особенно не хвалил, и потому я продолжала работать. Уроки отца явились одним из главных векторов в моем становлении.
«Он очень мной гордился, хоть мне этого не говорил»
Ваш отец, если я не ошибаюсь, должен был принять участие в воссоздании московского храма Христа Спасителя, а именно, в отделке его мозаикой, однако он не дожил до этого момента?
– Да...
Делился ли он с вами художественными планами?
– Нет, он со мной особенно не делился, потому что в двадцать лет я уехала, а заказ он получил уже в 1990-е годы. У нас были странные взаимоотношения. Когда я позже приезжала в Москву на каникулы и звонила ему, предлагая встретиться, то и во время этих коротких встреч мы как будто ходили друг вокруг друга на цыпочках. Я показывала и дарила ему свои первые графические опусы, он немного свысока меня хвалил, но особенной инициативы не проявлял. Потом, когда он внезапно и трагически умер, я прилетела на похороны и увидела, какой круг людей его любил, уважал, даже обожал, потому что он был любимым профессором на кафедре монументальной живописи. Ко мне подходили совершенно незнакомые люди и говорили: «Ах, это вы?! Ваш отец нам рассказывал, что вы выставляете свои работы во Франции, в Японии...» И все говорили, что он очень мной гордился. К сожалению, мне он никогда этого не говорил. Слова этих людей о папе освободили меня...
«Штрейкбрехерство» в дни «бархатной» революции, раскрутившее рождественскую карусель над Парижем
Перенесемся в годы вашего студенчества. Над своей дипломной работой, циклом, вдохновленным шекспировским «Королем Лиром», вы работали в период «бархатной» революции 1989 года. Как вы воспринимали происходящие тогда события? Как вам удавалось отстраниться от них и сосредоточиться на работе, когда вокруг кипел нешуточный накал борьбы и страстей?
– Сказать по правде, хорошего революционера из меня не вышло. Когда случился этот конфликт на Национальном проспекте (власти ЧССР жестоко разогнали там студенческую демонстрацию – прим. ред.), я как раз была с маленькой дочерью у свекра и свекрови в Моравии. Мы приехали в понедельник утром, а общежитие было совершенно пустым. Все проводили забастовку в вузе, я отдала свою дочь в садик и почувствовала, что все, что там происходит, мне совсем не нравится. Потому что вдруг начался революционный ажиотаж, когда все начинают делать все сообща, и если вы им не сочувствуете, то, значит, вы уже враг. Об учебе никто не думал, и меня это совершенно выбило из колеи.
Я, конечно, начала помогать и рисовать, мы печатали в литографической мастерской плакаты и листовки. Но дня через два я сказала себе, что все это не для меня. Мне совершенно не интересно было сидеть с остальными в коридорах учебного заведения, играть на гитаре, петь песни, курить, пить алкоголь. Студенты начали влюбляться... Так что я приготовила себе цинковую доску и начала рисовать довольно большую работу с названием «Рождественская карусель над Парижем». И меня сразу назвали штрейкбрехером, контрреволюционером. Но я сказала, что в эти игры не играю, потому что у меня ребенок, и мне не интересно там сидеть и ничего не делать. Мне казалось это пустой тратой времени. Это, на мой взгляд, была не борьба, а времяпрепровождение. Много суеты... Многие были посредственными студентами, но очень ангажированными «революционерами»...
Прикосновение к музыке графики
Кто из представителей чешской школы вам наиболее близок и интересен? Кого вы считаете самыми выдающимися фигурами художественного мира, без которых не представляете своего становления?
– Огромное впечатление после приезда в Прагу на меня произвели графические работы Адольфа Борна на выставке в Староместской ратуше. Смысл его юмора, неортодоксальный способ рисования, достаточно глубокие темы, интеллигентная цветовая гамма, интересные композиции. Я даже на сэкономленные от стипендии деньги купила одну литографию Борна. И свекрови это очень не понравилось, дома мне устроили ужасный скандал – дескать, у меня нет подушек и одеял, а я покупаю себе литографию.
Что это была за работа?
– Это был «Крысолов» (Krysař), не одномерная, а глубокая тема, в которую возможно углубляться и углубляться.
Полифоническая?
– Да. Эта литография до сих пор со мной. Потом, когда я начала работать в графической мастерской у нас в вузе, к нам однажды пришел такой незаметный человек, и мне наш мастер с уважительным придыханием сказал: «Разве ты его не знаешь? Это Андрле, Иржи Андрле (известный художник и график, чьи выставки проходили в известных музеях мира – прим. ред.)». Я стояла, смотрела на этого мужчину, он был очень тихим. Он подошел к нашему мастеру и показал на мою работу — по-моему, это был мой второй или третий офорт, и спросил, кто это сделал. Мастер показал на меня. Андерле подошел, мы познакомились, и с того момента он начал меня посвящать в тайну графики. Мы ходили по мастерской, и он мне тихим голосом говорил, что и как, что не надо отчаиваться, если не получилось, что надо сделать снова, несколько раз.
«Олдржих Кулганек стал первым, кто купил мою работу»
А потом на четвертом или пятом курсе в мастерской появился еще один человек с запоминающейся и яркой внешностью. Это был мой будущий коллега и товарищ Олдржих Кулганек (помимо прочего, создатель эскизов к чешским банкнотам, одна из которых завоевала в 2008 году титул самой красивой купюры мира – прим. ред.).
Он обратил внимание на мои работы. И потом он занял значительное место в моей жизни, потому что я жила с маленьким ребенком, у нас не было денег. А Олдржих был практически первым человеком, кто купил у меня графику – офорт «Меланхоличная шарманка». Он мне помогал финансово, но делал это крайне тактично. Например, сказал, что идет на день рождения, и ему нужно купить подарок. Олдржих, естественно, мог принести и свою работу, но купил у меня (позже работы М. Рихтеровой и О. Кулганека будут представлены в рамках одной выставки в США – прим. ред.).
Новый этап в жизни начинался с «Русских сезонов» Бенуа и Бакста
Среди многих ваших книжных иллюстраций и гравюр важное место занимают работы, вдохновленные «Русскими сезонами» в Париже. Где их сегодня можно увидеть, и какие открытия случалось делать в ходе работы над ними или над другими циклами?
– С работами Александра Бенуа и Леона Бакста, посвященными русским театральным гастролям в Париже, я была знакома еще со студенчества. Я отложила их в своей памяти и не прикасалась к ним, потому что тогда меня интересовали совершенно иные темы. К «Русским сезонам» и Серебряному веку я вернулась, когда начала жить с моим сегодняшним партнером, архитектором. Наша совместная жизнь начиналась в таком «состоянии аффекта», что мне захотелось рисовать уже не так спокойно и задумчиво, как раньше, захотелось работ на тему борьбы, столкновения и войны. И вдруг я поняла, что мне надо посмотреть на работы Леона Бакста. Я отметила, какие эффекты он применяет, все изучила, переработала и дальше шла уже своим путем. Мне надо было отмежеваться от своего классического способа рисования, и Леон в этом мне очень помог.
Возникала ли у вас потребность отождествления с какими-то образами своих произведений? Я поясню для наших слушателей: мы сидим в вашей мастерской, и я вижу, что со многих картин на меня смотрит именно Марина, в них угадываются черты вашего лица…
– Я все время рисую себя, при развитии любой темы, будь то война, любовь или смерть, что угодно. Я все время смотрю, как повела бы себя я… Поэтому, в основном, все работы как бы автобиографичны.
Скитания «Короля Лира» привели во Францию
Какие работы вы по прошествии времени вы считаете поворотными в своем поиске?
– Это наверняка та работа, которая произвела впечатление на Иржи Андерле. Портрет моей дочери, когда ей исполнилось три года, но я изображала ее не трехлетней, а примерно семилетней: работа называется «Грустный день рождения». А потом эта «Рождественская карусель над Парижем» 1989 года, потому что заканчивался этап моего обучения в вузе. Ну, и, конечно, моя дипломная работа «Король Лир» – благодаря ей началось мое сотрудничество с галерей Bonafoux во Франции. Месье Арсен Бонафу-Мура был моим «Королем», я могу сказать, очарован и закупил сразу по тридцати экземплярах от каждого офорта. Моя профессиональная карьера как раз и начиналась с «Короля Лира» и сотрудничества с Галереей в Париже.
Можно ли надеяться в ближайшее время на ретроспективную или какую-то другую выставку ваших работ?
– Да, возможно, через год-два мы сделаем ретроспективную выставку графики и почтовых марок, но не в Праге. Это, вероятно, будет в городе Хрудим или еще где-то.
В Хрудиме есть прекрасная галерея ART GALLERY – Svetlana & Lubos Jelinek, где представлены интересные авторы и работы…
– Да, совершенно верно.
Насколько часто вам как русской в силу событий 1968 года приходилось сталкиваться с предвзятым отношением к себе? И если приходилось, то как с этим удалось внутренне справиться? Случалось ли вам также слышать в свой адрес не только колкости, но и слова поддержки во время учебы и позже?
– Да, приходилось… Скажу по правде, некоторые мои коллеги, сокурсники, меня, конечно, в этой луже не раз прополоскали, делая это как бы исподтишка. Я была там единственной студенткой из Советского Союза – вспоминаю, что в институте приходили на меня смотреть, кто это из СССР к ним приехал, тем более, как я говорила, что меня обокрали при переезде… Это был такой диссонанс.
Диссонанс, продолжает Марина Рихтерова, заключался в том, что когда на курсе учится некто из страны, которая в тот момент главенствует, и при этом у него нет приличной одежды, а из-за нехватки денег он не может, как все остальные, позволить себе даже сходить в кино, нормально пообедать и тому подобное. При этом такой человек не пытается делать вид, что сидит в уголке, а отстаивает собственную точку зрения.
– Некоторые меня не переносили, иные считали бойцом. Они вообще не хотели знать моего мнения. Мой профессор хотел от меня избавиться; из Франции пригласили моего мужа, который занимался там генетикой, и уговаривали его, чтобы он забрал меня из института, потому что он официально нес за меня ответственность – я тогда была еще никто, просто студентка. С другой стороны, однокурсники готовы были ходить в детский сад за моей дочкой, когда мне приходилось сидеть на лекциях или когда я лежала совершенно больная в общежитии и не могла отвезти Дану в детсад. Никто из моих сокурсников никогда не относился к Дане плохо. Девочки в общежитии звали ее к себе, играли с ней, например, в принцессы.
«Я сказала, что не вступлю в чешский комсомол, потому что уже была в советском»
Чем руководство института объясняло свое требование об отчислении, какие аргументы приводило?
– Тем, что они меня уже ничему не научат … Они сказали, что «у меня рисунок, как у сорокалетнего человека», что они не могут меня уже ломать, и что им это неинтересно, так как они хотят, чтобы в институте были студенты, с которыми еще можно работать. Они считали, что со мной работать уже не имеет смысла, потому что я уже состоявшийся художник, однако считали это отрицательным, а не положительным.
Являлось ли это реальной причиной или за всем этим скрывалось нечто другое?
– Возможно, что я не исполнила их пожеланий, не оправдала надежд, потому что меня принимали как представителя Советского Союза, а я несколько раз уезжала во Францию и не захотела поступать в чешский комсомол. Я сказала, что я не вступлю в эту организацию, потому что я уже была в своем комсомоле, и с меня достаточно, а они все (студенты — прим. ред.) тогда являлись членами комсомола. Я просто не была удобоваримой студенткой.
На втором и третьем курсе дескриптивную геометрию и основы перспективы студентам Высшей школы прикладного искусства (VŠUP), в том числе Марине, преподавал архитектор Богумил Халупничек, выпускник этого вуза в 1976 году. По прошествии восемнадцати лет судьба свела их вместе. Став спутником жизни художницы, бывший преподаватель Марины вспоминал, как в годы ее учебы на заседаниях педагогического совета поднимался вопрос «о студентке из Советского Союза, о том, что надо бы что-то с нею предпринять». Халупничеку давали понять, что если бы он на экзамене поставил этой студентке плохую оценку, то ее можно было бы наконец отчислить.
«Мой преподаватель не знал, что через восемнадцать лет мы станем так близки»
– Он тогда, конечно, еще не знал, что мы встретимся с ним через восемнадцать лет и станем близкими людьми, но он поставил мне за экзамен «единицу», в Чехии это «отлично».
То есть, он также не оправдал их ожиданий?
– Да, не оправдал. Потом, после так называемой революции, в нашем вузе поменялись все профессора, и тот профессор, который потом туда пришел, оставил меня совершенно в покое и предоставил мне полную свободу. Я могла спокойно довести мою дипломную работу до победного конца. В вузе были как те, кто меня уважал и помогал мне, так и те, кто просто не переносил как Советский Союз, так и меня.
Отождествляя вас со страной?
– Да.
В 1989 году Б. Халупничек получил звание доцента Высшей школы прикладного искусства. Впоследствии он занимал в этом вузе должность проректора по учебной работе, а также сенатора и канцлера, а с 1995 по 2001 год возглавлял кафедру архитектуры.
Персональные выставки работ художницы-графика, иллюстратора Марины Рихтеровой проходили в Чехии, Словакии, Германии, Бельгии, США, ЮАР, Японии — в стране Восходящего солнца не менее десяти
«Из каждого минуса следует сделать плюс». Почтовые миниaтюры
Признаюсь, что я принадлежу к тем, кто убежден в том, что «Чешская почта» до сих пор недостаточно использовала ваш потенциал как автора креативных эскизов к маркам. В 2008 году появилась прекрасная марка «Написание письма»: на ней изображены первые строки реального любовного послания, которые вы как автор посвятили спутнику своей жизни...
– Да, моему архитектору…
Богумилу Халупничеку... Позже в обращение в Чехии были введены ваши, скажем так, почтовые миниатюры мирового, я уверена, уровня – «Моцарт», «Кафка», «Витезслава Капралова» – речь идет о первой чехословацкой женщине-композиторе и дирижере, чья жизнь оборвалась в 25-летнем возрасте... До марки, посвященной прославленному художнику, графику и иллюстратору Карлу Сволинскому, дело не дошло, как и до других. В 2017 году вы решили издать тетради со своими марками на собственные средства. Какова их судьба?
– Я издавала их потому, что мне не была предоставлена возможность нарисовать марки для Чешской Республики, кроме пяти или шести. Не будем ходить вокруг да около: просто в комиссии, отвечающей за распределение заказов на почтовые марки, сидят мои не очень успешные коллеги. Вот они там сидят и в меру своих возможностей не дают эти заказы тем, кого они не любят, а Марину они не любят, так что здесь эти карты очень ясно и откровенно розданы. И я, как всегда, когда мне кто-то ставит палки в колеса, начинаю этой системе противостоять. Я все время говорю себе, что надо из каждого минуса сделать плюс. Я считаю, что это великолепно, если они мне не давали заказы, потому в противном случае я никогда бы не сделала этот отчаянный и рискованный шаг. Потому что инвестировать огромную сумму в свои личные марки, не зная, окупится ли это и вообще будет иметь успех... Я, как всегда – это моя черта – просто сжала кулаки и решила, что не буду с ними пререкаться, ругаться, я вообще не буду о них говорить. Мой ответ им: я издаю свои марки, и они уже не смогут на это повлиять. Это был мой тихий ответ тем, кто не дает мне возможность работать.
Такие марки являются официальным продуктом «Чешской почты», которая, наряду со своими марками, издает и личные марки, имеющие все элементы законных знаков почтовой оплаты, но не включает их в свой эмиссионный план.
– Поэтому, когда я издаю свои марки, то имею право наклеивать их на открытки и письма, и они стандартно отправляются. На почте, однако, такие марки приобрести нельзя – только у самого автора.
Непосредственно в ходе работы над подготовкой материала о Марине Рихтеровой «Чешская почта» предложила ей работу над новым проектом.
«Мне и не снилось, что Ватикан попросит меня нарисовать марку»
Волею каких обстоятельств вы стали почти придворным художником Ватикана? Когда началось ваше сотрудничество с его почтовой службой и продолжается ли оно сегодня?
– Мы представляли мою марку «Моцарт» в резиденции мэра Праги. Это происходило в 2011 году. На этот прием были приглашены гости из почтовых отделений разных стран, потому что презентация проходила в рамках Пражской ярмарки коллекционеров. На прием, как и на официальную презентацию, могли прийти все купившие билеты на это мероприятие. И среди гостей там также присутствовал глава отделения нумизматики и филателии Ватикана. Нас не представили, но мой портрет Моцарта произвел на него впечатление. И он предложил руководителю аналогичного отделения «Чешской почты» сотрудничество при создании марки «Кирилл и Мефодий». Я предполагаю – но это чисто мои домыслы, что ему хотелось, чтобы автором этой марки стала я, но он, видимо, этого не озвучил, и в качестве автора эскиза был выбран гениальный словацкий художник Душан Калай. На этом как бы все и закончилось. Потом я еще нарисовала марку «Франц Кафка» для Чешской Республики, и вдруг в один прекрасный день мне звонят из «Чешской почты», сообщают, что получили e-mail из Ватикана с просьбой передать адрес моей электронный почты. Через двадцать минут я получила очень приятное письмо от председателя филателистического отдела Почты Ватикана Мауро Оливьери с предложением поучаствовать в проекте создания почтовой марки к юбилею Шекспира.
Я не верила своим глазам, потому что даже в фантастическом сне мне не пришло бы в голову, что Ватикан, о котором мне рассказывал мой отец в мои семнадцать лет, вдруг попросит меня нарисовать марку. Поэтому я считаю, что круг как бы замкнулся... Я, конечно, ответила, что это для меня огромное счастье, ведь это моя тема, мой Шекспир. А они сказали, что знают об этом и видели мои работы, и что я могу приступить и делать все, как захочу. Так мы начали наше сотрудничество, которое, я надеюсь, продолжается до сих пор.
Так появился «Шекспир», первая марка Марины Рихтеровой для Почты Ватикана. Членом Всемирного почтового союза Ватикан стал 1 июня 1926 года. По прошествии года Мауро Оливьери с двумя ассистентами прилетел в Прагу и предложил пражской художнице взяться за вторую марку — «Иннокентий III» (лат. Innocentius PP. III, Папа Римский в 1198 — 1216 гг.). За нею последовала «Франциска Кабрини» – портрет монахини, основательницы конгрегации Сестер Святейшего Сердца Иисуса и покровительницы эмигрантов, возведенной Римско-католической церковью в ранг блаженной. Потом пришел заказ на создание четвертой и пятой работ, которые выходили одновременно, вспоминает собеседница Radio Prague Int.
– Меня в большей степени интересовали марки, посвященные понтификам, я копалась в архивах истории искусств и истории. Из-за двух из них – святого Зосимы (лат. Zosimus PP, умер 26 декабря 418 года) и Адеодата (лат. Adeodatus PP.), жившего в VII веке, я начала читать Ветхий Завет. О Зосиме сохранилось мало сведений, он был понтификом недолго. И мне было интересно узнать, как начиналось христианство, потому что оно вышло из иудаизма, и в начале разрушения Римской империи даже считалось, что христианство – одна из ветвей иудаизма, а не самостоятельная религия. Я думаю, что мы все начинали читать Ветхий Завет, но так никогда и не прочитывали более двух-трех страниц, так как это тяжело и ничего читателю не говорит. И я раньше никогда не дочитывала дальше третьей главы. А здесь как будто что-то с небес меня как бы «включило», и вдруг Ветхий Завет передо мной предстал как что-то, что я совершенно спокойно читала, мне было ясно, о чем идет речь…
«Некоторые люди благодарили меня за то, что я изменила их мнение о русских»
Вам это помогло работать над данными образами?
– Да, но самое главное, это возымело огромнейшее влияние на становление нового моего мировоззрения, фактически в мои 55 лет. Я преобразилась в другого человека благодаря этому Завету.
Теперь, когда я оглядываюсь назад, то вижу, что жила и живу очень полноценной жизнью. И все негативное или трагическое шаг за шагом было инициацией. Многие из тех, кого я повстречала, не были отягощены предрассудками по отношению к русским, они просто любили меня. Среди прочих, преподаватели, коллекционеры моих работ и просто знакомые... Некоторые благодарили меня на протяжении ряда лет за то, что я изменила их мнение о русских и избавила от ненависти,
– завершает свой рассказ Марина Рихтерова.
Тему 10-летнего замужества с Иваном Рихтером, актером Пражского Театра им. В. Буриана, мы по обоюдному согласию обошли. В течение этого десятилетия, с 1990 по 2000 г., Мариной были созданы значимые в ее творчестве графические работы. Иван Рихтер ушел из жизни после продолжительной болезни в 2000 году. В день, когда их сыну Филиппу исполнилось десять лет.