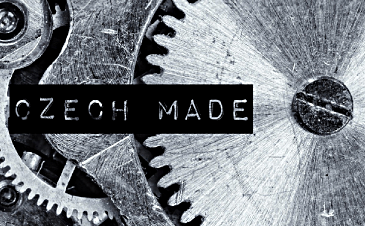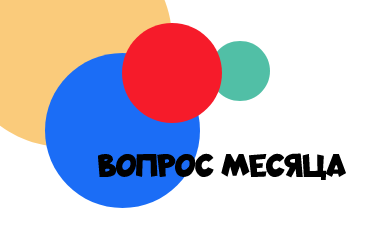Ондржей Соукуп: «Нет нации, которая не способна жить в демократии»
17 ноября 1939 года по приказу Гитлера в Чехии были закрыты все вузы. Более тысячи студентов тогда было арестовано, многие казнены, остальные отправлены в концентрационные лагеря, из которых не всем удалось выйти живыми. Молодежь хотели «приструнить» за политическую демонстрацию в честь чехословацкого государственного праздника 28 октября. Накалило обстановку и погребение трагически погибшего Яна Оплетала.
Спустя 50 лет, в 1989 году, пражские студенты решили почтить память протестующих и павших и устроили мирную демонстрацию, которая послужила толчком к «бархатной» революции в Чехословакии и падению власти компартии .
Участвовал в ней и студент Ондржей Соукуп — сегодня он является редактором газеты «Hospodářské noviny» (Экономическая газета) и специализируется на России и странах бывшего СССР.
Чем жила и о чем думала чехословацкая молодежь в этот день 33 года тому назад? Можем ли мы чему-то у них научиться?
— Ондржей, давайте начнем с ваших воспоминаний о событиях 17 ноября. Я правильно понимаю, что вы были свидетелем событий, которые происходили в 1989 году? Расскажите, где вы были, что вы делали, какие-то, может быть, самые яркие впечатления сохранились до сих пор?
— Я был тогда студентом первого курса философского факультета и успел проучиться только два месяца. Это было время, когда общество уже ждало перемен. Я, например, был членом одного экологического движения. Честно говоря, никто из нас, ну, или по крайней мере, я, не ожидал, что все может рухнуть. Для нас 17 ноября случилась одна из демонстраций того года. Единственное отличие – она была разрешенная. Соответственно ожидалось, что придет чуть больше народу.
Когда я туда направлялся, у меня больших ожиданий не было. Но когда вдруг увидел эту многотысячную толпу, где были чехословацкие флаги и плакаты с призывом «Свободу!», когда толпа начала скандировать имя Вацлава Гавела, я понял: да, наверное, что-то случилось.
Я действительно пошел до конца, то есть до момента, пока нас не остановила полиция. Отчасти я хотел продемонстрировать свое мнение, но с другой стороны, это было по дороге ко мне домой. Так что другого варианта у меня и не было.
В тот момент, когда нам перегородили дорогу полицейские, я решил: сейчас будет, как обычно. Мы немножко поскандируем, потом приедет пожарная машина и мы все разбежимся. Я прозевал момент, когда полицейские бронетранспортеры загородили нам пути отхода. В этой мясорубке мне разбили голову. Помню первый удар по голове, а очнулся я, когда уже врезался головой в живот какого-то полицейского, а он меня лупил длинной дубиной. Но, так как я был непосредственно около него, то удары приходились на воздух.
Потом я пришел домой, меня встретила моя младшая сестра и говорит: «Да ты весь в крови!» Я ей: «Ты знаешь, там было такое!» — я подразумевал, что кровь была чужая. А она мне: «Да ведь у тебя из головы кровь течет!» В общем, всю субботу меня рвало, у меня было легкое сотрясение мозга. В воскресенье мне позвонил одногруппник и сказал: «В понедельник встречаемся не на латыни, а в главном зале университета, потому что начинается оккупационная забастовка». Я в понедельник туда сходил, понял, что все серьезно. Вернулся домой, взял спальник и пошел бастовать. И вернулся домой, по-моему, 3 января. Вот такой я был революционно настроенный студент.
— Вы сказали, что сначала вообще не ожидали, что все так обернется. А потом стало появляться осознание? Возникло, может, ощущение: вот я вместе с другими меняю ход истории, государство, нашу жизнь? Или все же для вас это была молодежная «движуха»? Ведь в таком возрасте хочется куда-то вложить неуемную энергию, а тут такой повод.
— Насколько я помню, подавляющим ощущением в первую неделю был страх. Мы боялись, что введут войска, строили планы, что будем делать, если нас танками выгонят из университета, придумывали какие-то способы связи. Было непонятно, что будет дальше. В Прагу свезли народных дружинников, которые выглядели странновато, но в том, что они исполняли приказ, не приходилось сомневаться.
На второй неделе стало очевидно, что политбюро совершенно неспособно что-либо решить. Помню, я два года спустя смотрел знаменитую конференцию ГКЧП в Москве, и это выглядело похоже: абсолютно растерянные лица, возраст сильно за семьдесят. Смотришь и не понимаешь: почему мы вообще до сих пор их боялись?
Я ездил в агитационном отряде по регионам. В Праге, Брно и Остраве людям было все более-менее ясно. Города поменьше – там было посложнее. Мы ездили, и я рассказывал, как нас, мирных студентов, ни за что ни про что избили, и как это было жутко. Так я провел два месяца забастовки.
— И как реагировали люди в регионах?
— Реагировали и принимали нас очень хорошо. Фактически везде через неделю появились ячейки гражданского форума, группировались вокруг местной аптеки, городской библиотеки. Фактически на тот момент уже не было людей, которые бы говорили: «Да что вы такое творите?!» Потому что даже те, кто через полгода или пару лет начали в свободных выборах голосовать за коммунистическую партию – так вот даже они на тот момент говорили: «А может быть, действительно, станет лучше? Может, заживем, как в соседней Австрии? Или этот будет такой демократический социализм, как в Швеции?» Надежд было столько, что любой мог в них вписаться.
— И это касалось любого возраста? То есть не только молодежь на вас позитивно реагировала, но и люди старшего поколения? Очень хочется провести параллель с сегодняшней ситуацией, когда молодежь пытается донести свою точку зрения до бабушек, дедушек, а те не то, что поменять свои взгляды не готовы — они даже слушать ничего не желают. А тогда было не так. Чем вы это объясните?
— Это был уникальный момент и уникальная ситуация. Например, поколение моих родителей – они были свидетели событий 1968 года, надежд, «Пражской весны». Поколение моих бабушек и дедушек — те еще помнили демократическую Чехословакию. Моя бабушка, когда все началось, достала портрет президента Масарика, который когда-то вырезала из газеты. Повесила на окно! В тот момент у всех возрастных категорий было своя причина, чтобы поддерживать происходящее.
— Помните какие-то лица ярко из тех дней? Может быть, кого-то из однокурсников или ведущих фигур, кто стоял во главе протестов?
— Я был студентом первого курса, так что, конечно, был знаком со студентами из нашего стачечного комитета, но не здоровался за руку с Вацлавом Гавелом. Помню, был такой Отакар Фангемунд — наполовину голландец. Сейчас он — один из видных представителей антипутинского движения. И был еще одногруппник Хорхе из Чили, член социалистической молодежной организации у себя на родине. Чтобы не попасть в пиночетовскую тюрьму, сбежал в Чехословакию, год учил чешский, а затем поступил в вуз. И он нам все время говорил: «Слушайте, так это же не социализм!» Мы ему: «Хорхе, ну ты нам, конечно, тайну открыл!» А он: «А почему же вы тогда не боретесь, где ваше оружие?» Социалистическая чилийская молодежь — она была довольно радикальная.
В первый день стачки я встретил Хорхе в коридоре факультета, он меня обнял и говорит: «У тебя ручка и бумага есть?» Да, говорю. «Давай, садись и записывай. Лучший коктейль Молотова получится из следующих местных ингредиентов, делается вот так..» Я ему: «Да ты что, Хорхе, мы же мирные!», а он: «Не учи меня делать революцию!» Пришлось записать. Правда, листок с «рецептом» потом потерялся в вихре революционных дней.
— Ну и что в итоге, пригодились вам советы Хорхе или нет?
— Не пригодились. Тот режим оказался настолько зыбким, что сам рассыпался. В тот момент, когда часть наиболее молодых коммунистических лидеров пыталась обещать, что они все сделают, как Горбачев, и даже лучше — их уже не слушали. Был такой председатель пражского горкома, Мирослав Штепан. Он приехал на фабрику, собрал несколько тысяч человек, и начал: да, было сделано много ошибок, но мы сейчас все исправим, не может быть, чтобы какие-то дети на улице начали нам диктовать, что мы должны делать. И тут вся фабрика загудела: «Мы не дети! Мы не дети!» И все, на этом выступление закончилось. В 1989 году нашему режиму уже не верил никто, включая, мне кажется, большую часть силовых структур. И некому было отдать приказ. Никто из этих маразматиков не хотел ничего решать. За двадцать лет они привыкли, что все решал Кремль, и в те дни звонили в Москву и спрашивали, что же им делать. А им в ответ: «Решайте сами». Это оказалась ситуация, к которой они были абсолютно не подготовлены.
— Ондржей, спусковым крючком для протестов в свое время послужило то, что нацисты закрыли университеты. А если бы они этого не сделали? Случилось бы то, что случилось?
— Да, надо сказать, что разгон демонстрации 17 ноября 1989 года имел такой отклик, потому что это была круглая годовщина – вспоминали день, когда нацисты закрыли чешские университеты, несколько тысяч человек расстреляли, многие попали в концлагеря. На демонстрации 1989 года выступал один из выживших в лагерях.
Позднее появились разные конспирологические теории. Каждый год появляются новые книжки, в которых можно прочитать все, что угодно: начиная с того, что это был заговор КГБ, чтобы трансформировать Чехословакию и сохранить деньги, и заканчивая тем, что это был заговор ЦРУ, которое через своих агентов отдало приказ к разгону мирной и разрешенной демонстрации. Однако все документы, которые были изданы, и все свидетельства, которые у нас есть, не отвечают на один главный вопрос: кому именно все-таки пришла эта «прекрасная» идея в голову? Взять и разогнать демонстрацию студентов, в день студенчества, в годовщину казни студентов нацистами? Естественно, после 1989 года все причастные полностью отрицали, что имели к этому отношение. Все заняли позицию «я мимо проходил, я ничего не знаю». Разобраться, кто именно из них врет, было не так просто.
— Ондржей, а вот еще такой вопрос. Движущей силой всего были студенты. Не случись тогда демонстрации, возможно, не было бы и переворота. У вас есть возможность сравнить тогдашнюю молодежь и современную. Способны ли сегодняшние ребята устроить нечто подобное? И привело ли бы это к подобным результатам?
— Конечно, мы выросли в абсолютно другом обществе. Мы все привыкли на публике говорить одно, а дома другое. Родители учили: «Не говори в школе, что у нас есть вот эта пластинка и вот та книжка». У нас были другие установки, хотя дух юношеского бунтарства — он, конечно, вечен.
Что было другое, так это то, что в обществе после 1968 года был консенсус: то, что происходит — неправильно. Я в своей жизни встретил только троих людей, которые искренне верили в коммунистическую идею. В общем, это была пороховая бочка, которая держалась на советских танках. И в тот момент, когда танки начали уходить, а Москва сказала: «Ребята, решайте сами» — выяснилось, что режим падает. Тогда студенчество могло быть мотором. Оно стало зарядом, который детонировал первый, но это подхватили. «Наших детей бьют» - это же всегда мощный мобилизационный лозунг. Его подхватили люди всех поколений, которые до этого не могли открыто выражать свои убеждения. И в этом и есть разница. Сейчас все могут выражать любое мнение, но порой лучше бы не выражали. Такого взрыва сегодня уже случиться не может, потому что мы не живем на пороховой бочке.
— Что для вас значит свобода, как вы ее понимаете и ощущаете? Мы же все-таки говорим о дне борьбы за свободу и демократию.
— В ноябре 1989 года мне казалось, что свобода — это значит, что мне никто не будет приказывать, какую мне слушать музыку, какой длины у меня будут волосы, ну и прочие банальности. Однако они были важны. Это был симптом того, как было устроено общество: оно держалось на запрете, на силовом подавлении любых мнений, отличных от официального. И мне кажется, что это до сих пор важно. Мы и сегодня наблюдаем за обществами, которые постепенно превращаются все в более авторитарные: Беларусь, Россия, которая идет усиленным ходом в фарватере, и прочие популистские режимы, как в Венгрии. Результат: кто-то указывает, как тебе жить. Так что мне кажется, что тогдашние представления – они не такие уж наивные.
— Все ли народы умеют жить в демократии? Лозунги мы эти слышим часто, подобные стремления наблюдаем тоже часто. Но все ли умеют с этим обращаться?
— Если говорить о какой-то части общества, то, естественно, нет. В любом обществе будет процент людей, которым будет существенно лучше в диктатуре или другом авторитарном режиме. Им просто будут говорить, что нужно делать, и они будут счастливы.
Если обобщать на уровне нации, то это другое. Нет нации, про которую можно было бы сказать: она неспособна к демократии. Когда люди говорят: «В России все равно нужна сильная рука, они хотят царя» — то меня это бесит, так как идет вразрез с историческими фактами. Всегда, когда власть ослабевала хватку, немедленно появлялись те, кто требовал больше свободы. Конечно, никто не говорит, что во всех обществах будет швейцарский тип демократии. Однако принцип, по которому люди должны выбирать своих представителей сами и самостоятельно решать, куда общество должно двигаться он универсален.
— Когда я готовилась к нашей беседе, то, читая статьи на российских ресурсах, заметила такую тенденцию: очень часто со словом «демократия» соседствует слово «бардак». Что вы об этом можете сказать?
— И понимание демократии, и то, как эта демократия выглядит, всегда будет определять исторический опыт. Честно говоря, сложно удивляться людям, которые пережили первую половину 90-х годов и потому воспринимают демократию как нищету и организованную преступность. Это все было. Когда у людей есть такой опыт, то надо пробовать взглянуть на демократию по-другому, не как на хаос распадающегося СССР. Кто бы ни был тогда у власти, не смог бы предотвратить этот исход. И хоть это и был тоталитарный режим, все было предопределено. У каждой нации есть свой исторический опыт, и перестройка восприятия определенных понятий в сознании людей займет десятилетия, века, может быть…
— Вернемся к Чехии. В 1989 году студенты шли на демонстрацию с какими-то лозунгами и надеждами. Сохранились ли эти понятия в обществе? Или понадобилась бы еще одна «бархатная революция», чтобы обновить эти идеалы?
— Основные лозунги — про демократию, свободу, братство — живы и сохранились. Конечно, тридцать лет — огромный срок. Те, кому сейчас 25-30 лет, говорят: «Слушайте, а социальное неравенство?» Иногда кажется, что все эти торжества — китч моего поколения, воспоминания минувших дней, а молодое поколение задает уже другие вопросы. Как нам сейчас купить квартиру, выжить, как решить экологические проблемы? В общем, другая повестка дня. Наша задача, мне кажется, понимать ее и поддерживать, поскольку она все же находится в полном согласии с тогдашними нашими идеалами.
— Каков ваш любимый лозунг с тех времен, с 17 ноября?
— Даже не могу вспомнить. Скорее, мне запомнились шуточки. Например, когда коммунисты пообещали сделать коалиционное правительство и пригласить туда оппозицию. Однако в результате в составе правительства оказалось двенадцать коммунистов и трое беспартийных. Тогда появились плакаты: «Ребята, коалиция — это не самка коалы». Дескать, это выглядит немножко по-другому.
— 17 ноября вы ходите на какие-то мероприятия в Праге?
— Да, хожу. Всегда себя чувствую слегка смешным, ностальгирую. Особенно когда дети были помладше, я ходил с ними, чтобы свечку зажечь. Всегда встречаю там кучу знакомых, друзей. Мне кажется, это такой коллективный обряд, по крайней мере, у определенной части общества.
— Ондржей, вы — журналист. Мы говорим о свободе. Возможна ли свобода журналистики в будущем в Чехии, как вы это видите?
— Что касается журналистики, все упирается в деньги. Деньги могут быть даны на каких-то хороших условиях. Например, общественное телевидение, радио — у них жесткий кодекс, они должны стараться быть максимально объективными, освещать разные точки зрения, и в Чехии, мне кажется, это по большей части удается. Но есть и частные СМИ, которые принадлежат действующему политику, например, Андрею Бабишу, или получают средства из других, еще менее прозрачных источников финансирования.
Это все сложно, но в меня вселяет оптимизм то, что даже небольшие СМИ либерального толка умеют находить деньги на свое существование. Все больше людей понимают, что подписка на какое-то СМИ — это хороший тон. Если все финансирование исходит из рекламы, то в качестве этой информации можно сомневаться. Мне кажется, в обществе есть большая потребность в информации, хоть и нет огромного желания за нее платить. Не думаю, что профессия журналиста исчезнет — скорее, сильно трансформируется. В финале потребители будут решать, будет ли проект успешен. Основой для этого является их доверие.
— В этом году 17 ноября вы проводите пешеходную прогулку по Праге для журналистов из оппозиционных российских СМИ. Что хотите рассказать и какие мысли донести?
— Всегда, когда описываю 89-й год, чувствую себя дедушкой-ветераном, который вспоминает про свои ратные подвиги. Я хочу рассказать о том, насколько та ситуация применима или не применима к сегодняшним реалиям. Может быть, в Беларуси такое может случиться. Хочу вселить надежду: даже если положение кажется абсолютно безвыходным, все может поменяться очень быстро. Я на первом курсе размышлял: ну, годика три, пять все продлится. Сам Вацлав Гавел признавался: думал, что до 1991 года ничего не поменяется. И вдруг одна демонстрация перевернула все с ног на голову.
— Можете такое представить в современном российском государстве? Что может послужить такой зажженной спичкой?
— В данный момент я не вижу предпосылок для такого массового недовольства, но ситуация может поменяться. Непонятно, как долго продлится война в Украине, какие будут потери, какое это будет иметь влияние на российское общество. Однако не приходится сомневаться, что российское государство становится из авторитарного тоталитарным, будет диктовать своим людям, что думать, затягивать гайки, и в какой-то момент все может лопнуть, потому что недовольство населения будет зашкаливать. И тогда триггером может послужить что угодно.
— Как и тогда, 17 ноября, да?
— Да. Кто мог подумать, что мирная демонстрация обернется крахом коммунистического режима?
Мы беседовали с редактором газеты «Hospodářské noviny» Ондржеем Соукупом.