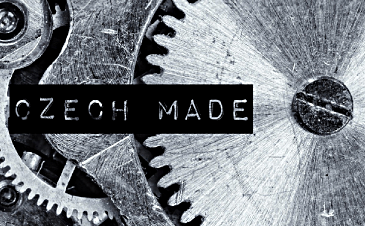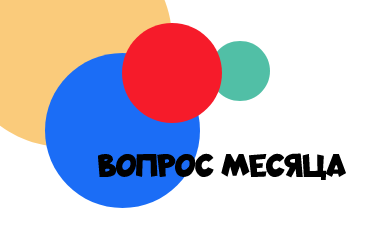Революция молодых, революция солидарности
Диссиденты и студенчество – это две главные силы, поднявшие тридцать лет назад в Чехословакии волну гражданского сопротивления, положившего конец всевластию компартии и открывшему дорогу к новому свободному обществу. Позже эти дни назовут «бархатной» революцией, так как смена власти в стране в ноябре 1989 года обошлась без кровопролитной гражданской войны. Однако события, которые сегодня в Чехии называют просто «Бархат», не могли бы случиться, если бы у людей не было желания и отваги самостоятельно отвечать за свое будущее.
Лидером Забастовочного комитета Философского факультета в 1989 году, а позже главой Студенческого совета и Академического сената Карлова университета и одним из инициаторов издания студенческого журнала «Ситуация» (Situace) был Властимил Ежек. Сегодня он глава правления пражского Муниципального дома, а ранее он занимал посты генерального директора «Чешского Радио» и «Национальной библиотеки».
Революция одного отдельно взятого гимназиста
— Ваша собственная революция, как я понял, началась задолго до 1989 года – еще в гимназии. Тогда вы написали заявление о выходе из комсомола, так как узнали об аресте Даны Немцовой – «…той милой интеллигентной дамы, которая с нами ездила в лагерь и очень интересно рассказывала», как вы описывали это в интервью для проекта «Память народа».— Мне кажется, надо копнуть еще глубже. Возможно, как ни странно, но все началось еще в первом или втором классе. Я пошел в школу в начале эпохи «нормализации», после событий 1968 года. Директора тогда уволили, а новая директриса оказалась «стальным товарищем» и еще туже закрутила гайки. И вот представьте: в этой атмосфере, когда некоторые учителя требовали, чтобы ученики, отвечая на уроке, держали руки за спиной (а это было ужасно), неожиданно появляется какая-то дама с копной длинных золотых волос, и спрашивает: «Кто хочет играть в театре?» А я был ответственным учеником, всегда старался быть в первых рядах и, даже толком не сообразив, о чем нас спрашивают, сразу поднял руку. И поскольку отнекиваться уже было невозможно, я действительно начал ходить в театральный кружок в пражском районе Карлин,- в Дом пионеров и молодежи, где все и началось. Эта дама, Мирена Волкова, не имела ничего общего с пионерской организацией, она окончила Театральный факультет, но решила, что не пойдет ни на какие компромиссы, поэтому не стала работать в театре, а занималась с детьми. Она действительно была нонконформисткой, ее лучшими подругами были драматург Даниэла Фишерова, которой было практически запрещено писать, а некоторые ее пьесы выдерживали всего одно представление, поскольку ее идеи можно было трактовать так, как «товарищам» не очень нравилось, и Дана Немцова, которая в представлении не нуждается, она была ярким представителем диссидентского движения. Был у нее еще один друг, Сватоплук Карасек, священник, впоследствии эмигрировавший в Швейцарию.
«Капля нормальной жизни» и «Руки по швам!»
И мы, дети, вдруг оказались в атмосфере отсутствия пресловутой «нормализации». В драмкружок мы ходили раз в неделю, а на каникулах проводили там по две-три недели и росли как бы «внутри капли нормальной жизни». Я это подчеркиваю потому, что, если вас ненормальность окружает со всех сторон, со временем может начать казаться, что ничего другого и не существует. Но это лишь до момента, когда появляется хотя бы капля нормальной жизни, когда вы встречаете людей, с которыми вы общаетесь не как с диссидентами, а как с обычными людьми: они очень интересны и образованы, они с вами занимаются. Они и разговаривают совершенно иначе, чем большинство тех, кто вас окружает. А потом вы узнаете, что кого-то из этих людей посадили, и вам совершенно непонятно, почему и за что.Именно тогда и зародилось какое-то внутреннее сопротивление, которое в подростковом возрасте, когда я уже был студентом гимназии, вылилось в заявление о выходе из комсомола. Происходившее казалось мне нереальным, я отказывался это понимать, отсюда и моя попытка некой индивидуальной революции, которая в результате кончилась трусливым отступлением. Но, с другой стороны, если бы я тогда не отступился, то в 1989 году не смог бы быть в забастовочном комитете на Философском факультете Карлова Университета. Ничто не дается даром.
— Пойдем чуть дальше. В 1986-87 году вы с другими студентами делали стенд с вырезками из советских газет эпохи перестройки, которые, правда, быстро исчезали со стены по приказу сверху. Получается, что ваша революция развивалась благодаря перестройке в СССР?
Перестройка «не соответствует социалистической линии развития государства»
— Как это ни парадоксально, да. Хотя Философский факультет в 80-е годы, в отличие от 60-х, не был центром общественного сопротивления, но все-таки несколько человек, которые хотели жить и делать все по-своему, там было, и трудно было с ними не встретиться. Стенд был моей идеей. Забавно, что для него мне выделили место рядом с кабинетом профессора Витеслава Рзоунека – коммуниста до мозга костей, заведовавшего кафедрой чешской литературы. У него было три молодых ассистента, зорко следивших за происходящим. А я был воспитан Миреной и нашим театром и был твердо убежден, что если что-то существует, то нельзя делать вид, что этого нет. Разумеется, отрывки из эмигрантской или диссидентской литературы я не мог бы там разместить без серьезных последствий. Однако мне удалось найти советские материалы, в которых дискуссия велась гораздо более открыто, чем здесь у нас.Однажды я в своей работе написал комментарий о чем-то, что меня ужасно разозлило. Вскоре мне пришел ответ — пять очень строгих строчек о том, что мое замечание не соответствует социалистической линии развития государства. Мне кажется, что в этот период в СССР такого уже не могло произойти. Вырезки из советских газет о перестройке, которые я каждый день прикалывал булавками, вечером куда-то исчезали, и утром доска была уже практически пуста. Я даже подумывал начать приклеивать эти вырезки. Но постепенно эту идею я забросил, так как благодаря стенгазете познакомился с людьми, несколько по-другому представлявшими себе самовыражение и высказывание собственного мнения. Одним из них был Йозеф Брож, придумавший концепцию факультетского журнала, который потом некоторое время выходил под названием «Ситуация» (Situace), и многие идеи моего стенда, о котором я с гордостью рассказывал новым друзьям, появились в этом журнале.– В декабре 1988 года диссидентам разрешили провести демонстрацию на площади имени Шкроупа, а потом в январе 1989 года прошла протестная «Неделя Палаха». Но мы сразу переместимся в ноябрь 1989 года.
«Зачем же я возвращаюсь? Здесь нет будущего!»
– Когда вы шли на демонстрацию, причем согласованную, предполагали ли вы, что вас изобьют? В интервью для проекта «Память народа» вы упоминали, что это мероприятие долго готовилось. Как все происходило?
— Лично для меня ситуация была непростой еще и потому, что мне неожиданно на рубеже сентября и октября выдали разрешение на выезд на Запад. И мы с моим другом Зденеком Тихим отправились за границу: я в Мюнхен, Зденек в Вену. Подготовка к демонстрации началась еще до моего отъезда. Я бы не сказал, что студенческие демонстрации были разрешены, – их скорее терпели. И без комсомольской печати делать что-либо было невозможно. Подготовка к 17 ноября шла достаточно активно, но я в ней не участвовал, потому что приехал только 15 или 16. Было непросто вернуться из западного мира, живого и многоцветного, в нашу серость. К тому же в день моего возвращения шел дождь, было пасмурно, на границе люди с автоматами и собаками, и, как в каком-то фильме, на вокзале на ветру качаются железные лампы. В общем, настоящая психологическая драма, и я себя спрашивал: «Зачем же я возвращаюсь? Здесь же нет никакого будущего».Так что лично для меня 17 ноября началось уже непосредственно встречей с людьми, которые в той или иной степени участвовали в организации демонстрации. Я заранее не знал, какие плакаты готовятся, и когда увидел все эти лозунги, услышал, каким свободным языком и на какие темы они разговаривают, мне показалось, будто меня на скором поезде отправили из ада прямиком в рай. Я не имел четкого представления о том, как все будет происходить, потому что несанкционированные митинги обычно оказывались недолгими, а единственный до этого прошедший разрешенный митинг на площади Шкроупа был неудачным, плохо озвученным. Расслышать что-либо можно было только непосредственно у подиума.
А на Альбертове (пражский район, где собирались участники студенческого митинга и демонстрации, состоявшейся 17 ноября 1989 года) звук уже был отличный. Там собралось много людей, которые выглядели совершенно иначе, говорили иначе, выражения на лицах было совершенно иное. И неожиданно из того «маленького пузырька», из той «капельки» единомышленников, которую я знал в детстве, возникло нечто большое. Пришло сознание, что таких «капелек» по всей стране было намного больше, чем можно было предположить, особенно если взглянуть в прошлое, когда казалось, что диссидентов и противников режима было немного.Вместо страха – эйфория и «Да здравствует бабушка!»
— А как же страх? В тот момент его не было?
— На Альбертове страха действительно не было, там была эйфория. Эйфория продолжалась и нарастала, когда наша демонстрация отправилась на Вышеград, а оттуда как-то спонтанно дальше. И также спонтанно к нам присоединялось все больше людей. Расскажу одну историю, одну из ситуаций, вызывавших тогда эйфорию. На социалистических демонстрациях люди носили плакаты «Да здравствует социализм!» или «Дружба с СССР на все времена!» (этим идиотским лозунгам, разумеется, никто не верил, но так полагалось). А когда мы шли по набережной, неожиданно открылось окошко, оттуда выглянула старушка, в каждой руке у нее было по чехословацкому флажку. И она начала изо всех сил нам махать. А толпа в ответ начала скандировать «Да здравствует бабушка!» Это было нечто нереальное. Совершенно иной подход, иные взгляды, иные убеждения. Но при этом все совершенно естественно. Правда, лично у нас были и определенные ограничения. Я уже тогда был женат на Алене, она была на девятом месяце беременности. Если честно, я до сих пор рад, что Алена быстро устала, и мы не пошли с демонстрантами дальше, на Национальный проспект. Потому что, если бы мы там оказались, скорее всего, дочери бы у нас не было.Но поскольку наш дом всегда был открыт для всех друзей и приятелей, то постепенно в течение вечера все те, кто попал на Национальный проспект, получил удар дубинкой, но смог сбежать, и его не арестовали — все они собрались у нас на кухне, в результате там было человек 15–20. И тогда страха тоже не было, тогда была злость. Никто не мог понять, что это было, почему и кому это нужно. Но страха в тот момент не было.
Страх появился в один-единственный день — когда мы начали так называемую «оккупационную забастовку» на факультете. Декан убедил нас, что нельзя так рисковать, что если бы что-нибудь пропало, нас бы обвинили в краже. Мы с ним согласились, здание закрыли. Днем мы были на Вацлавской площади, а ночь провели на площади перед зданием философского факультета. И вот когда мы ночевали на улице в знак протеста, но при этом знали, что совсем рядом, буквально по ту сторону реки, стоят военные бронемашины, которые в любой момент могут двинуться на нас — вот тогда пришло чувство страха и не покидало меня до утра. Хотя умом-то я и понимал, что, если бы сверху дали приказ подавить нашу забастовку, то стены факультета вряд ли бы их остановили.— Слушая рассказы участников забастовки, меня больше всего поражало то, как буквально ниоткуда появлялись самые разные люди и предлагали помощь: кто-то чинил автомобили, кто давал деньги, кто-то приносил еду…
— Это действительно было так. В период социализма все было проблемой: что-либо починить, купить или организовать. А тут получалось все. Потому что это было временем надежды. И мы все понимали, что мы не хотим того, что имеем, хотим что-то изменить. Думаю, с этим было согласно 95% населения. А вот если бы мы тогда официально вели дебаты на тему «Чего мы хотим?», то тут, возможно, возникли бы проблемы. С течением времени стало ясно, что наши представления о том, чего мы хотим, и реальные результаты были достаточно далеки друг от друга.
Четыре мгновения забастовки
Воспоминаний о том периоде у меня очень много, расскажу хотя бы про три из них.
Первое: то, как мы распространяли информацию. Ведь тогда не было ни интернета, ни мобильных телефонов, ни персональных компьютеров. Всю информацию мы писали фактически на коленке, а потом «копировали» на циклостилях (ротаторах). У нас на факультете тогда было пять таких машин, два из них не работали, и техник утверждал, что отремонтировать их невозможно. Но вдруг неожиданно эти два ротатора, которые невозможно починить, были отремонтированы и исправно работали всю нашу забастовку.
Второе: мы организовывали тогда сбор средств, ведь распечатка материалов, создание плакатов и прочей атрибутики стоили денег. И вот к нам пришел какой-то господин в такой приплюснутой шапке, бросил нам какой-то не очень чистый, заляпанный мешочек и ушел. И тут только мы опомнились, кто-то закричал: «Да это же Грабал!» (знаменитый чешский писатель Богумил Грабал), но догнать его уже не было возможности. А в мешочке, на минуточку, оказалось, сто тысяч крон — это была огромная сумма, в пересчете на нынешние деньги около миллиона или даже больше.И третье: забастовка была единственным периодом, когда на философском факультете были идеально чистые уборные, а также всюду висела туалетная бумага, что, с одной стороны, было немного комичным, а с другой, не могло не радовать.
И все-таки добавлю еще одно воспоминание — это было очень нетипичное событие. У пражских таксистов и сегодня далеко не идеальная репутация, а до ноября 1989 года их реноме было в тысячу раз хуже. Но тогда именно таксисты бесплатно возили нас на почту, где сотрудницы — также бесплатно — пересчитывали мелочь, которую мы насобирали в ходе сбора средств, и обменивали на банкноты. В общем, благодаря тому, что все мы поверили этой внезапно появившейся надежде, весь народ неожиданно превратился в одну большую семью, где каждый помогает друг другу. И это было действительно прекрасно. Но следует признать, что продлилось это дней десять, может быть, две недели. А потом ситуация опять стала меняться.
«Красный город» сдался актрисе и беременной студентке
— Вы описали ситуацию в Праге. А что происходило в регионах? Туда же ездили ваши «гонцы» и беседовали с местными жителями.
— Регионы были ключевыми. Художники, студенты, интеллигенты — это было прекрасно, но одни мы бы ничего не добились. Поэтому нам с самого начала стало ясно, что без поддержки регионов у нас ничего не получится. Тогда мы начали создавать небольшие группки по три-четыре человека, в каждой был хотя бы один студент и один артист или художник. Мне эти группки запомнились еще и потому, что в их работе участвовала моя жена. Несмотря на то что она была на девятом месяце беременности, она отказывалась сидеть дома, участвовала во всех событиях на факультете, а я за нее очень волновался. А когда она решила, что начнет ездить в регионы, я вообще чуть не поседел. И вот она вместе с актрисой Ивой Янжуровой отправилась в Кладно. Это было «Красное Кладно» — город заводов, символ социалистического режима. И я до сих пор помню, как Алена гордо рассказывала: «Я выставила живот, Ива толкнула речь — и они были наши!»Все это было эмоциональным порывом, эмоции кимпели и они были очень важны. Мне кажется, что то время было временем прекрасных «микро-историй», я уверен, что каждый человек, кто в тот период вышел на улицу (и неважно, участвовал ли он в забастовках или нет), носит в сердце хотя бы одну такую небольшую историю. Их тысячи, возможно, десятки тысяч, и именно из них, как из мозаики, складывался весь ноябрь 1989 года.
— Вы сказали, что единение народа довольно быстро закончилось. Отчего это произошло? Что вызвало разочарование — например, лично у вас? Ведь я читал, сколько радости принесло назначение Вацлава Гавела на пост президента… Но ведь до 29 декабря прошло много времени...— Тут сложно дать правильный ответ… У меня к этим событиям очень индивидуальный подход — ведь, с одной стороны, я придерживаюсь либеральных взглядов, но с другой (а либералы бы меня за это побили), мне очень нравился концепция Гражданского форума как объединения людей с разными политическими взглядами, от правых до левых (разумеется, кроме экстремистов, но тех, насколько мне известно, там не было). Мне эта система нравилась потому, что можно было — пусть долго, пусть непросто — найти идеальное решение всех, даже самых сложных проблем. Но эта концепция быстро прекратила свое существование и была заменена более традиционной поляризационной западной демократической системой.
«Впрочем, это вполне естественно»
Мы избавились от идеологии, которая «была единственно возможной» и была спущена сверху. И тогда разные страны стали нам предлагать варианты политического устройства, но это опять же были идеологии, и решение различных проблем упиралось в то, соответствует ли оно данной идеологии.Да и в целом принятие решений опять перешло к группе «партийных» представителей, что для меня стало одним из самых сильных разочарований. Многие стали добиваться своих личных целей, чего в те счастливые десять дней нашей забастовки на факультете не было и в помине — тогда мы все шли за общей целью. Хотя, конечно, были и те, кто пытался в период факультетской забастовки сдавать экзамены и зачеты. Однако потом новое руководство Философского факультета приняло решение, что экзамены и зачеты, сданные в период забастовки, не будут засчитываться.
В ноябре 1989 года все эти «капельки» и «пузырьки» свободомыслящих людей соединились в единый — тогда еще радостный — бурный поток, а позже он вновь начал разделяться. Главная причина — защита собственных интересов. Впрочем, это вполне естественно.
— Люди из забастовочного комитета имели впоследствии возможность начать политическую карьеру и удержать власть в своих руках или хотя бы попытаться это сделать?
— Мы все обладали такой возможность, потому что — я очень хорошо это помню — отчаянно требовались люди, которые были готовы заседать в Федеральном собрании, но никто из нас участвовать в нем не хотел. Мы радовались краху режима, радовались тому, что открылись границы и теперь можно путешествовать, отправиться куда-либо по своему усмотрению. А погружаться в политику никто из нас не хотел. Не говоря уже о том, что, как мне кажется, стать политиком в двадцать лет — это как-то очень странно.
Нули остались в прошлом
— Как вы воспринимаете нынешнюю ситуацию?
Я по-прежнему счастлив, ведь раньше у нас не было никаких перспектив. Или перспектива была, но крайне ограниченная. Всегда приходилось идти на компромисс, чтобы человек мог заниматься любимым делом. Я тогда как раз заканчивал университет по специальности «чешский язык и история» со специализацией в педагогике и с нетерпением ждал момента, когда начну преподавать и смогу рассказывать детям об истории «правдиво». Почему «правдиво» в кавычках? Потому что история очень сложна, и невозможно со всеми подробностями и нюансами описать каждую секунду жизни в каждом уголке земного шара, это нереально. Так что я хотел преподавать историю настолько правдиво, насколько сам это ощущал. Далее была возможность свободно эмигрировать или свободно высказывать свой оппозиционный взгляд на политическую ситуацию.
И еще была перспектива жизни в серой реальности, причем серой она была даже визуально: я говорю про дома, улицы или те металлические лампы на вокзале, о которых я рассказывал в самом начале, а вокруг — пограничники и линия границы с колючей проволокой. Была возможность как-то жить, пытаясь сохранить некую внутреннюю свободу, слушая «Радио Свобода». Но на этом перспективы заканчивались.Сегодня мир открыт, большинство людей может заниматься практически чем угодно, если, конечно, не нарушает закон. Я имею в виду, разумеется, людей здесь, у нас, потому что в мире все еще есть страны с тоталитарным режимом, бедные страны. И я счастлив, что у нас в стране ситуация изменилась, что смешной и убогий режим, в котором я жил до двадцати четырех лет, пал. И я бы сказал, что многое сейчас зависит от нас: каждый должен искать в себе внутреннюю силу, внутреннюю свободу для того, чтобы не боятся высказать свое мнение. Потому что причины для страха существуют всегда. Но если бы я должен был составить бинарный код своей жизни, код из единиц и нулей, то я бы сказал, что сейчас я живу в мире единиц, а нули остались в прошлом, – говорит Властимил Ежек, лидер студенческого Забастовочного комитета Философского факультета Карлова университета в период чехословацкой «бархатной» революции 1989 года.