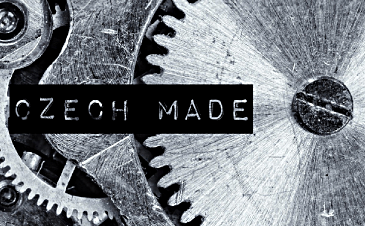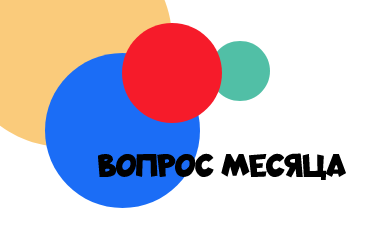Вацлав Гавел и "Пражская весна"
Интервью экс-президент Чехии и Чехословакии Вацлава Гавела Чешскому телевидению.
События 1968 года, наверное, нельзя отделить от атмосферы и событий 1960-х годов в целом. Что вы можете сказать о 60-х?
Вацлав Гавел: Общеизвестно, что 60-е годы обладали особой атмосферой и интеллектуальным настроем. Почему эпоха восстаний против самых разных элит пришлась именно на 60-е, и почему все это произошло именно так, как произошло, - все это, наверное, имеет много объяснений. Одним из них может быть тот факт, что созревало и включалось в общественную жизнь поколение, выросшее уже после войны. Поколение, которое не принимало активное участие в холодной войне. У этих людей был другой, свежий взгляд на мир. Это было очень интересно. У этого времени был свой стиль, мода, это время до сих пор по своему эстетическому наследию незаменимо. Я был в том возрасте, когда мог всё это интенсивно прочувствовать, и даже принимать участие, так как в 60-е были поставлены мои первые пьесы, которые из Праги разошлись по миру. Это не было время новых, альтернативных концепций, никто тогда не придумал новую модель общественного строя, новую идеологию или доктрину. Это был скорее бунт против окостеневших механизмов того мира, против застывшей политики холодной войны, против бюрократии. При этом у того времени был свой поэтический привкус.
В Чехословакии царила „Пражская весна“, у меня, наконец, появился загранпаспорт, которого раньше быть не могло. Я путешествовал по Америке. Я был на премьере своей пьесы, видел студенческие забастовки и огромные демонстрации в Центральном парке Нью-Йорка. У меня даже были встречи со студентами Колумбийского университета, которые я начинал предложением: „Надеюсь, что я не штрейкбрейхер“. В театры на Бродвее все приходили в бусах и очень пестрой, разноцветной одежде, с длинными волосами. То, что было на сцене в „Hair“, плавно переходило в зал, на улицу и в Центральный парк. Конечно, многие из тех, которые в этом принимали участие, позже успокоились, постриглись, надели галстуки и стали организованными клерками и менеджерами. Тем не менее, мне кажется, что где-то в глубине опыт 60-х остался и имел сильное влияние на общественную и политическую жизнь последующих десятилетий. Примером может служить политик, с которим я смог близко познакомиться – Билл Клинтон. Я в нем всегда чувствовал возможно подсознательную принадлежность к 60-м годам. Что-то похожее я ощутил и в Париже. Помню забастовку в аэропорту. Я искал чемодан, с которым прилетел из Америки. Меня провожал Павел Тигрид, предложивший отвезти меня в Брюссель, откуда я смогу вылететь в Прагу. Работник аэропорта искал среди тысяч чемоданов мой. Мы вышли на летное поле, нигде ни одного человека, никто никуда не шел, не садился в самолет. Работник аэропорта показал на поле, где без движения стояли огромные лайнеры и сказал: „Посмотрите, они как мертвые птицы“. Эта история для меня характеризует парижскую майскую революцию и ее поэтический размер. Конечно, эта была и настоящая революция, некоторые ее проявления выходили из понятных мне рамок. Поджигание машин и разбивание витрин я не поддерживал. Но тогда это было всемирное движение, это было время Beatles, Лу Рида, Энди Уорхолла, время независимых студенческих движений. У нас это все имело специфический характер, потому что до этого у нас существовал только ЧСМ (чехословацкий комсомол). По инициативе молодых людей вдруг начали возникать независимые организации, причём никто молодежь к этому не призывал. Исчезли идеологические штампы. Ведь и в пятидесятых много чего происходило, писатели протестовали, подавлялись разные выступления. Но даже те, кто являлись инициаторами сопротивления, приспособабливались к официальному языку и придерживались основных идеологических схем и понятий. Потом пришло поколение, которые все это отбросило. Студенческие забастовки в Америке, майская революция в Париже и события в Чехословакии стали вершиной очень специфических мировых тенденций. Это об атмосфере того времени.
Если шестидесятые годы можно воспринимать как восстание молодого поколения, какие были последствия для других поколений? Возможно, и они каким-то образом освободились, вздохнули свободно. Растаял лед и для поколения, которые было связано с послевоенной атмосферой?
Вацлав Гавел: Разных людей это коснулось по-разному. Есть одно характерное воспоминание. В Америке я был в гостях у Фердинанда Пероутки, нашего лучшего журналиста двадцатого века. Конечно, он для меня являлся авторитетным человеком. На его даче в Коннектикуте мы вели долгие разговоры. Тогда я понял, как сильно отличается мировозрение Пероутки. Это был человек, воспитаный Первой республикой, он сидел в концлагере, видел коммунистический переворот, эмигрировал на Запад, где и жил. Этот человек не мог понимать волосатых парней с цветами. Он не скрывал, что ему это чуждо, странно, непонятно, что они против всех. Это был человек другой эпохи. Как на все это реагировали другие поколения американцев, я не знаю. Я встречал самые разные мнения и подходы. Иногда даже подлизывание к молодежи. За полчаса до начала самой большой демонстации в Нью Йорке меня пригласили в квартиру миллионеров на Пятой авеню, где ньюйорские сливки общества выпивали по бокалу и потом вместе решили присоединиться к толпе. У меня есть фотографии, как мы шагали по Пятой авеню, там чувствовалась снобская тяга пожилых к молодежному бунтарству. Конечно же были, и, так сказать, „никсоновцы“. Но Америка настолько большая, пестрая и разношерстная, что судить ее очень опасно.
Как вы считаете, была ли Чехословакия настолько же пестрая, что и здесь старшее поколение могло бы вздохнуть свободо?
Вацлав Гавел У нас все, конечно, было немного по-другому. Иногда я слышу, что за „Пражскую весну“, то есть за попытку гумманизации социализма (и эта попытка, несомненно имела международное значение и повлияла на коммунистическое движение во всем мире), так вот, что за эту попытку мы обязаны коммунистам-реформаторам, которые принадлежили к младшему поколению и которые вытеснили консерваторов внутри партии. Не хочу уменьшать их заслуги, но хотелось бы обратить внимание на тот факт, что они это делали под давлением общества и с осознанием кризисных явлений в обществе. Критических замечаний было столько, что власти, особенно молодые прогресивные люди, должны были реагировать. Я помню, как мне Иржи Пеликан советовал организовать оппозиционную партию. Кажется, что им самым хотелось настоящей демократии, которую они сами не вводили, вводить не могли, и наверное, не сумели бы ввести. Но освободительный процесс, зародыши которого уже задолго до этого появились в общественном самосознании, вдруг перерос сам себя, сильно повлиял на ситуацию внутри компартии и мышление ее лидеров. Результатом этого всего были январские перемены 1968 года.
Характерным эпизодом развития ситуации был съезд Союза писателей в 1967 году. Там произошли интересные вещи. Некоторые коллеги - Милан Кундера, Лудвик Вацулик, Павел Когоут и другие, бывшие коммунисты (некоммунистов было в союзе всего несколько), - выступили с красивыми радикальными, революционными обращениям, за что позже были наказаны. Но мне в их выступлениях, вступающих в прямую идеологическую конфронтацию с режимом, не нравилось то, что они должны были принять идеологический язык, чтобы вообще могли вступить в конфронтацию. Вынуждены были согласиться на некоторые части идеологии. Например, на то, что высшей ценностью является социализм, хотя неизвестно, что конкретно имеется в виду. Или же социалистическая поэзия. Это что? Стихи о национализации имущества? Они должны были в определенной мере на такое согласиться. Я принадлежал к тем, для которых даже маленькому языковому компромиссу был предпочтительнее разговор о других темах. Мне казалось, что надо говорить о конкретных вещах, выступать с конкретными требованиями и не впутываться в идеологические конфликты, в которых можно было только проиграть. Поэтому я говорил о запрещенных и заключенных писателях, о закрытых журналах, я предлагал принять новый устав союза писателей, который бы позволял внутреннюю свободу вместо ведущей роли коммунистических партгрупп. Эта были подготовительные встречи перед каждый собранием. Я выступил против таких конкретных являений, как запрет журнала Tvář, и спрашивал, почему такие выдающиеся личности нашей литературы, как профессор Черный, Индржих Халупецкий, Иржи Коларж не являются членами Союза писателей. Зато там было большое количество писак, которые десять лет назад писали оды на Сталина, потом свои мнения переосмыслили, но на должностях остались. Это были проблемы того времени, но это было важно. Протесты коммунистов-реформаторов, опирающееся на авторитет коммунистического убеждения, связывались с протестами людей, которые стояли вне коммунистической системы. Одно комбировалось с другим, одни поддерживали других. Однако важно замечать оба полюса и не замалчивать об одном из-за существования второго, что, к сожалению, часто случается. Мы можем встретиться с тем, что коммунисты-реформаторы присваивают себе весь 1968 год, от А до Я, также можно встретить другую крайность, когда авторами всего этого исторического движения обявляются антикоммунисты.
Возможно в это время говорить о некоммунистической оппозиции, о какой-то структуре?
Вацлав Гавел: Да, были люди вне компартии, которые почувстововали, что пришел момент, когда надо подключиться к общественной деятельности. Это было очень тяжело, потому что все организации были построены на принципе ведущей роли коммунистической партии. Были попытки возобновления социал-демократической партии, возниклы K231 и KAN, то есть было стремление образовать настоящую демократическую организацию, которая не имеет ничего общего с коммунизмом. Об всем этом писали, думали, разговоривали, велись бесконечные дискуссии. Помню, одна такая встреча проходила у нас дома. Это после того когда я опубликовал большую статью под названием „На тему оппозиции“ (Literární listy 6/1968). Но время для еще не созрело, а оккупация пришла слишком рано, для того, чтобы эти тенденции успели реализоваться. Не было никакой базы, никакого оборудования, никаких секретарш, помещений, не было источников финансирования. Это усложняло ситуацию.
Как вы проводили лето 1968 года? Какие у вас воспоминания о том моменте, когда вы узнали, что страна оккупирована?Вацлав Гавел: Значения зимы 1968 года, знаменитого январского заседания ЦК, мало кто осознавал. К чему это приведет, не понимали в полной мере даже внутри компартии, даже инициаторы перемен, такие как Дубчек, Смрковский и другие. Так бывает при коммунизме. Если чуть-чуть приоткрыть двери, общество туда сразу вставит ногу. То же самое мы позже видели при Горбачеве. Для общества Александр Дубчек был одним из чиновников, и разницу между ним и Василем Биляком мало кто замечал. Под давлением общества и постепенного освобождавшихся СМИ реформаторы должны были принимать во внимание требования людей и пойти им на встречу. Они сами были поражены, что так можно заработать популярность без того, что партячейки и пионеры с флажками им организуют овации. Они были в восторге, потому что не знали, что такое настоящая поддержка. Они двигались на этой волне, иногда ее приостанавливая, но с другой стороны они уже оказались в серьезной конфронтации с Москвой. Это история дрезденской встречи. Это было очень интересно и драматично. Я в этом тоже принимал какое-то участие. В Союзе писателей в качестве противовеса партийцам мы основали Круг независимых пистелей, то есть тех, которые никогда не были в партии. Я его основал, написал его программу, был его председателем. Однако я не был во главе тогдашних перемен, там, конечо же, были другие люди.
Я путешестовал и по своему обыкновению проводил лето на своей даче Градечек в Крконошах. Там было достаточно сильное движение, в гости приезжали друзья: Вера Лингартова, супруги Тржиска, Либор Фара, Зденек Урбанек и другие. Это было время великой радости, возбуждения, и одновременно опасений и страха, чем все закончится. Мы организовали вечеринки, тусовки и, хотя сами не хотели признавать, подсознательно вероятно рассчитывали на то, что все может быть раздавлено и уничтожено. Ежедневно мы слушали радио и смотрели телевидение, что было раньше немыслимо, потому что слушать и смотреть было нечего. Помню, как мой друг, актер Ян Тржиска говорил: „Такое красивое лето, это не может хорошо кончится“. Однажды мы поехали в Либерец к нашим молодым друзьям, архитектору Масаку. Во время вечеринки началась оккупация, за которой мы тогда наблюдали из Либерца. С Яном Тржиской мы подключились к очень странному и удивительному движению сопротивлению. В Либерце произошло кровопролитие. Танки въехали на площадь и кого-то задавили. Я сам видел, как танк стрелял вокруг себя. В нем сидели напуганные парни, которые не знали, где они, почему они здесь, и не понимали, что происходит. Благодаря этой конфронтации, которая была достаточно жесткой, хуже чем в других городах, в Либерце не была организована советская воинская часть, которая бы взяла на себя управление городом. Танки только проезжали. Поэтому в городе расцвело народное сопротивление. Все эти лозуги, стишки, песни, собрания и все, что тогда было. В мэрии мы с паном Моулисом, мэром и вообще хорошим человеком, образовали команду. Я ежедневно писал коментарии для областного радио. На горе Ештед мы создали телестанцию, в которой тоже выступали. Помню, я написал большое обращение к народу с инструкциями, что делать и как бороться с оккупацией. Под этим обращением подписался райком компартии и районная администрация, такого со мной раньше не бывало. Но конечно и в Либерце присутствовала другая, оккупационая, сторона. И мы должны были скрываться и тайно ездить из гостиницы на радио в сопровождении машин охраны. Здание радио было окружено бетонными заграждениями, чтобы его было сложно захватить. На заводах нам оформили пропуска, чтобы, если что, потеряться в толпе рабочих. Интересно, что во всех событиях принимало участие молодое поколение, наши хиппи. Там был человек, которого все знали под кличкой Священник, он был вождем группы парней с длинными волосами, раньше их боялся весь город. Помню, что на лестнице у ратуши они играли Massachusetts и другие популярне песни. Этот Священник пришел в первый день оккупации к мэру и говорит: „Начальник, мы в вашем распоряжении. Что нам делать?“ Они получили задачу снимать таблички с домов, чтобы оккупанты плохо ориентировались в городе. В течение ночи были сняты все таблички. Таблички лежали в корридоре в мэрии и Священник спрашивал: „Что теперь, мэр?“ Это мои личные воспоминания, которые отпечатились в моей памяти наверное из-за того, что это кое-что говорят о том времени, шестидесятых годах, о том, как наши события вошли в контекст мировой истории.
Как долго вы работали на либерецкой радиостанции?
Вацлав Гавел: Работа там наладались молниеносно, уже когда танки где-то в 11 часов ночи проезжали по городу, и продолжалась до возращения чешской делегации из Москвы. В телеэфире у нас был критический комментарий насчет москоских протоколов. Этим наша насыщенная неделя закончилась и мы вернулись на дачу Градечек. Потом пришло совершенно другое время, очень странное. От подписания московских протоколов до наступления режима Гусака год спустя ситуация была очень напряженная, мучительная, в этот период произошло и самосожжение Яна Палаха. Её можно понять исходя из духа того времени, когда воля всего народа была бессовестно подавлена людьми, которые больше всего хотели сделать карьеру или у которых были просто преступнные побуждения. Кульминацией стали хоккейные матчи и апрельский ЦК 1969 г., на котором доктора Гусака назначили на должность генсека. Александр Дубчек оставался еще короткое время председателем Федерального собрания, но потом уже гайки закручивались очень быстро. Начались масштабные чистки, все должны были давать письменные заявления, что одобряют оккупацию, и присягать на верность новому режиму. Это было время огромного давления и глубокой деморализации всего общества. Я много раз выступал в вузах, это ведь было и время студенческих забастовок и студенческих протестов. То, что полгода назад в Америке было направлено против элиты демократического государства, было теперь у нас направлено против новых коммунистических властей. Студенты в этом играли большую роль. Тогда были распущены нелояльные организации, включая Союз писателей. Постепенно начало выявляться, кто станет коллаборантом, кто уйдет в оппозицию, а кто будет выжидать, чем все закончится. В драматургическом и психологическом плане было интересно наблюдать, как люди меняются. Уже при Гусаке, пожалуй еще в 1969 году, посадили первых людей и мы подписывали петицию писателей за их освобождение. Я был одним из сборщиков подписей и знаю, как люди стали отличаться. Одни выкручивались и увертывались, говорили, что они уже сами натерпелись, поэтому не могут подписать, хотят прожить старость в покое. Другие приходили со сложными объяснениями, что этот путь нас к цели не приведет, потому что мы только провоцируем, что менее заметный и камерный способ борьбы будет более эффективным. Но некоторые подписали, хотя осознавали, что возможно на долгие годы станут запрещенными писателями или диссидентами. Можно было наблюдать, как писательское сообщество писателей, что было только отражением процессов, происходящих во всем обществе. Позже я к этой теме вернулся в пьесе „Протест“, на которую меня вдохновили именно эти события.
А год спустя уже чехи боролись с чехами, словаки со словаками?
Вацлав Гавел: Да. Это было очень грустно. Я придерживался мнения, что человек не обязан пафосно кричать „смерть оккупантам и предателям народа“ или „хотим суд над Биляком и предателями родины“. Я знал, что те, которые вот так кричат, не выдержат и будут первыми, кто отступят. Я был сторонником спокойной, деловой, но тем гораздо более крепкой позиции, чем этот демонстративный подход. Жалеть себя, что мы - бедные жертвы истории и что мы расплатились за весь мир – это могло служить только отговоркой, а не альтернативой незаметному, но конкретному и постоянному сопротивлению.
Помните какую-нибудь мелочь, деталь, которая отпечаталась в вашей памяти в августе 1968?Вацлав Гавел: В людях быстро проснулись хорошие черты характера. Не только в каждом человеке по отдельности, но и во всем обществе. Это было время удивительно всеобщей солидарности и чувств взаимосвязи и сопричастности. Время, когда и воры в тюрьмах писали манифесты, что больше воровать не будут. Конечно было понятно, что это долго не продержится, у нас что-то такое всё время случается раз в 20 лет, и длится недолго. Это мое главное воспоминание о тех днях.
Помните реакцию из за рубежа? К примеру, Австрия и Германии оставили открытые границы. Как США, Великобритания, Франция?
Вацлав Гавел: Я знаю, что были страны, как, например, Швейцария или Австрия, которые доброжелательно открыли двери эмигрантам. Некоторые страны выражали свое мнение жестко и откровено, некоторые в более мягкой форме. Абсолютно не верю в некий секретный сговор Запада и Кремля, хотя об этом тоже иногда говорят. Не исключаю, что советский посол в Вашингтоне пришел за несколько часов до начала вторжения в госдеп, чтобы предупредить, что будет, чтобы у американцев было время психологически подготовиться. Это не исключаю, вполне возможно. Но я в этом не вижу сговора или договоренности о том, что американцы нам помогать не будут. Было очевидно, что это нереально. Нельзя было развязать мировую войну из-за венгерского восстания или подавления „Пражской весны“.
Мнения в коммунистическом лагере также расходились. Югославия наверняка вела себя по-другому, чем Советский Союз, также как и Румыния, - ведь Чаушеску был в оппозиции.
Вацлав Гавел: Да, да.
Существует ли что-нибудь, что можно было бы назвать наследием 68-го года? Для публики из дальних стран может стираться разница между 68-м годом и сносом железного занавеса в 1989 г.? В чем основная разница?Вацлав Гавел: Постепенное поднятие железного занавеса и падение коммунизма в 1989 г. и события 1968 г. объединяет давление общества, которое хотело жить в свободной стране и не хотело терпеть тоталитарный режим, который с утра до вечера унижал человека и вёл к экономическому спаду. 1968 и 1989 гг. объединяет протест против тоталитарного режима коммунистического типа. Но есть и много отличий. В первую очередь, 1968 год проходил под эгидой идеологии реформированного коммунизма. Руководство страны при негласной поддержке общественности заявляло, что хочет улучшить социализм. Подчёркивалось, что мы не отделимся от советского лагеря, и не пойдем против него. Далее заявлялось, что не будет никакой приватизации и никакого капитализма. Идеология реформированного коммунизма являлась для иностранцев главным проявлением и продуктом „Пражской весны“. В 1989 году было все совсем по-другому. Люди уже не хотели никакого социализма с человеческим лицом, хотели свободу. Эту разницу я хорошо понимал и даже вынужден был с ней воевать. В рамках Гражданского форума, имровизированного всенародного движения, конечно притсутствовали и коммунисты-реформаторы 68 года, которых в течение 20 лет преследовали, особенно если они подписали „Хартию-77“, или как-то по-другому принимали участие в деятельности оппозиции. Однако в новое время (в 1989) их видение политики и их словарный запас не находили поддеркжу в обществе. Хотя они долгие годы боролись с партийным руководством, подвергались репрессиям, профессора вынуждены были работать кочегарами, все равно они подсознательно сохраняли навыки своего коммунистического прошлого. Например, странную любовь к политике закрытых кабинетов, потребность обо всем сначала договориться между собой за закрытыми дверьями, определиться с тактическими действиями, и только потом разговоривать с другими. Это было ярко видно. Но главное, их методы аргументации уже общество не понимало. Выступление Зденека Млынаржа по телевидению вызвало просто отвращение, обращения Александра Дубчека на Вацлавской площади или Ладислава Адамца на Летне тоже не произвели впечатления. Люди уже ждали большего.
Тем не менее, наверное, можно сказать, что времена застоя (в Чехословакии называемые „нормализацией“) под догматическим коммунистическим руководством и память о событиях 68 года стали причиной того, что перемены в 1989 году прошли так быстро и так радикально?
Вацлав Гавел: Да, в этом плане 1968 год сыграл важную роль, потому что после него все просвещенные люди были изгнаны с своих постов и с работы. Сотни тысяч людей, начиная от директоров заводов, инженеров, учителей, профессоров были уволены, и их места получили второстепенные хамелеоны. У власти оказался пятый состав, самые примитивные и самые консервативные люди, которые на свои должности выкарабкались по трупам уволенных. Поэтому и восстание против режима в 1989 г. было мощнее, масштабнее и быстрее привело к успеху, чем в других странах, где не было чисток 1969 года и где на руководящих государственных, партийный и управленческих должностях оставались умные и реформистски настроенные люди.
Когда вы поняди, что „Пражской весне“ конец? В 1969 году, спустя год после событий или раньше? Или уже в тот момент, когда в страну входили советские солдаты? Когда вы сами для себя поняли, что даже теоретической надежды уже нет?
Вацлав Гавел: Помню самый первый момент, когда нам в 11 вечера позвонили - включите радио, передают заявление ЦК о том, что войска вошли на нашу территорию. Мы сразу выбежали из квартиры. Мой друг, уже скончавшийся Иржи Сейферт, был в таком интеллектуальном и эмоциональном состоянии, что встал на пути едущему танку, чтобы ему помешать двигаться дальше. Это было связано не только с его эмоциональностью, таковым тогда было общее настроение. Это имело несколько аспектов. С одной стороны, люди не верили своим глазам, не понимали, как могут тысячи танков и солдат ворваться и сурово захватить страну без того, чтобы существовал какой-то объяснимый повод. С другой стороны, люди понимали, что это означает конец и пришла беда на длительное время. Никто не мог себе представить, как все конкретно произойдет и как долго это будет длиться, но то, что случилось что-то плохое, знали и чувствовали все. Одновременно в людях сохранялась какая-то надежда. Трудно сказать, на что люди надеялись. Но солидарность, о которой я уже говорил, единство и желание помогать друг другу – например, нам на радио привозили лекарства, хотя они нам были не нужны, но люди очень хотели помогать – вся атмосфера того времени давала надежду. Помню лозунг: „дух грубой силой не победить“. Люди верили, что от них что-то зависит. Даже если приедет миллион танков, они ничего не добьются, если люди будут непоколебимы и будут себя умно, но одновременнно хитро вести. Тем не менее, я принадлежал к тем, которые предупреждали, что мы не должны опъянеть от того, как хорошо мы себя вели в течение первой недели оккупации. Надо было защищать вещи, может быть меньшие, но конкретные, делать это надо было на постоянной основе. После подписания московских протоколов питать илюзии стало равносильно самоубийству, но мы не хотели возвращаться к прошлой жизни из-за того, что настоящее безнадежно и не стоит даже пытаться что-то изменить..
Последний вопрос на злобу дня. В 1968 году состоялась Олимпиада в Мехико, чехословацкая делегация приехала как представитель страны-жертвы агрессии других держав. Ваша подруга, гимнастка Вера Чаславская добилась тогда огромных успехов. Можете припомнить как там всё происходило и международную реакцию на успехи Чехословакии, и сделать прогноз, чем могла бы закончиться Олимпиада в Китае?
Вацлав Гавел: Олимпиада в Мексико была незабываемым событием. Весь народ сопереживал Вере Чаславской, ее победы мобилизовали международную общественность больше, чем заявления политиков. Ведь Олимпиаду смотрел один или два миллиарда зрителей. Публика спотанно выражали свои симпатии маленькой Чехословакии, нас это невероятно ободряло, и все это имело большое международное значение. Вера заслуживает абсолютного признания за свои действия тогда. Позже она за это поплатилась по полной программе. Что касается Китая, здесь все сложнее. Не знаю, может быть в связи с Олимпиадой что-нибудь состоится. Однако опыт подсказывает, что подчеркнутое безразличие и равнодушие, якобы во имя олимпийской идеи, к условиям жизни в стране в результате опозорит саму олимпийскую идею. От своих русских друзей, демократов, диссидентов и вождей оппозиции знаю, какой поддержкой для них в свое время стал бойкот московской Олимпиады. Наоборот известно, как Гитлеру помогла в тридцатые годы берлинская Олимпиада со всем её размахом и нацистским амбалажем. Позиции Гитлера укрепилась именно из-за того, что люди подумали, что политический режим - одно дело, а Олимпиада – другое, и не надо это смешивать. Это очень опасная идея.