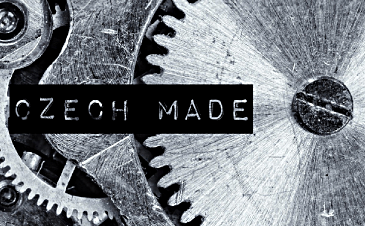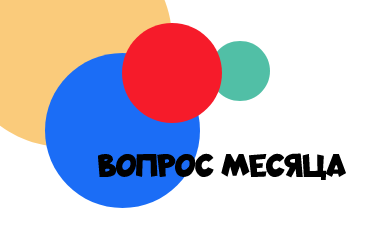Быть поэтом. 120 лет со дня рождения Ярослава Сейферта
«Вспыхни, пламя строки, и гори, даже если я обожгу себе пальцы!» – написал он в 1983 году, в своем последнем сборнике «Быть поэтом». Рассказ о Ярославе Сейферте (1901–1986) обычно начинают с того, что он – единственный чешский лауреат Нобелевской премии по литературе. Однако поэзия Сейферта больше границ и премий.
Его чистый, простой и вместе с тем необычайно образный язык считается вершиной чешской лирики. Сейферт прошел весь трудный чешский ХХ век, был очарован коммунизмом и авангардизмом, побывал в советской России, был исключен из компартии, чуть не расстрелян во время Пражского восстания, выступал против сталинизма, дважды видел на улицах Праги советские танки, попал в опалу, стал звездой самиздата и до конца жизни писал стихи. 23 сентября со дня его рождения исполняется 120 лет.
Если кто-то спросил у меня,
что такое стихи,
я, смутившись, не сразу б ответил.
А ведь мне-то уж это известно!
Я опять перечитывал старых поэтов,
И иные стихи,
Как огни в темноте,
Освещали мне путь.
(пер. Т. Глушковой)
О поэзии и судьбе Ярославе Сейферта Radio Prague Int. рассказывет сотрудник Института чешской литературы и компаративистики философского факультета Карлова университета, доцент Ян Виндл.
– Что для Чехии сегодня значат стихи Ярослава Сейферта?
– Значение Ярослава Сейферта для современного общества состоит, на мой взгляд, из трех аспектов. Разумеется, это Нобелевская премия по литературе, которую поэт получил в 1984 году, и других лауреатов этой премии у нас нет. Присуждение премии стало тогда не только оценкой всей чешской литературы и особенно поэзии, но и импульсом для всех независимых антитоталитарных сил, которые в определенной степени воспринимали Сейферта как своего поэта. Важно его поэтическое творчество, в котором о ключевых вопросах человеческой жизни говорится с необычайно своеобразной, типично сейфертовской интонацией, простотой, способной при этом передать состояние внутреннего мира человека. И не последнее место здесь также занимает то, что личность и творчество Сейферта отражает многослойность и сложность ХХ века, в котором поэт прожил 85 лет.
– Как видит Сейферта сегодняшний чешский читатель? Как писателя, родившегося 120 лет назад, чьи стихи проходят в школе и о котором вспоминают в дни юбилеев? Или современный чех, когда ему печально или радостно, берет с полки книгу его стихов?
– Волшебство поэтики Сейферта заключается в том, что он считается классиком в самом широком смысле слова. Его поэтический язык настолько понятен разным социальным слоям и поколениям, что остается современным и актуальным для сегодняшнего читателя.
Когда спускался я с холма предместья
к воротам этим,
открывал я Прагу.
Теснило грудь волненье – чуть ступлю,
бывало, на булыжник этих улиц.
В пивных шипела пена. Кружки глухо
постукивали. А по мостовым
дешевая любовь мела окурки
измызганным подолом… Я спешил
на площадь старую
и дальше, к Влтаве.
(«Пороховые ворота», пер. Т. Глушковой)
– Перед нами стоит сложная задача – рассказать о Сейферте иностранному слушателю, который ничего не знает об этом поэте и вообще мало знаком с чешской литературой.
– Это непросто, поскольку то, что делает Сейферта Сейфертом переплетено с судьбой всего чешского общества ХХ века. В этом он безусловно является национальным поэтом. Что может заинтересовать иностранного читателя, который, если не знает чешского языка, должен обратиться к переводам, так это волшебство его поэзии. Он передает сложные экзистенциальные вопросы очень простым и понятным языком. Его творчество способно создавать впечатление личного сообщения, человеческого присутствия. Я думаю, эта ценность присутствует и в переводах, в его творчестве, прежде всего, второй половины ХХ века.
– Иностранному читателю, вероятно, можно рекомендовать воспоминания Сейферта «Вся красота мира», где, по сути, глазами пражанина показан чешский ХХ век?
– Книгу «Вся красота мира» он создал как очень личное, интимное повествование о месте поэта и человека в этом мире. Это и мемуары, и не мемуары. Я назвал бы их лирическими воспоминаниями Сейферта о ключевых перекрёстках своей жизни, встречах с разными людьми. Сейферт очень ценил дружбу, и эта книга – ее апофеоз. Одновременно это вытеснение тяжелых воспоминаний, на которые на склоне жизни в своей итоговой книге он смотрит уже другими глазами.
Судьба Ярослава Сейферта удивительна – он не окончил даже гимназии, но всю жизнь зарабатывал на жизнь писательским и журналистским трудом, получив в итоге Нобелевскую премию по литературе. Родился в простой бедной семье. Его отец сменил несколько профессий – был слесарем, мелким конторским служащим, неудачно торговал картинами, во время войны делал протезы для ортопедической клиники. Иногда в семье не было угля, чтобы разогреть еду. Недаром в ранних стихах Сейферта появляется витрина магазина, в которой его лирический герой жадно разглядывает деликатесы.
Сейферт много вспоминает родителей: «… это была жизнь двух индивидуумов с разным мировоззрением», обращается к детству в Жижкове – этот район Праги и сегодня не считается слишком фешенебельным, а тогда являлся, по сути, замызганной рабочей окраиной. Однако Сейферт смог его превратить во что-то волшебное, подобно тому, как Витебск преобразил Марк Шагал. Сейферт пишет: «У меня речь идет главным образом о том, чтобы нащупать немного поэзии в тех буднях, которые иногда пытались не быть буднями, как им было предназначено».
Я читал стихи,
Слушал музыку
и бродил, пораженный,
от одной красоты к другой.
И когда на картине увидел впервые
обнаженную женщину,
я поверил в чудо.
Жизнь пролетела.
Была она слишком мала
для моих огромных желаний,
которым не видно конца.
не успел я оглянуться –
как жизни пришел конец.
(«Автобиография», пер. М. Павловой)
– Жижков Сейферт называл «самым прекрасным городом на свете» – в молодости он настаивал, что это не Прага, а отдельный город.
– Да, это определённая идеализация, присутствующая и в лирике Сейферта. Благодаря своему поэтическому мастерству и необычно личной интонации он добивается того, что эти идиллические картины воспринимает и критически настроенный читатель. Отец Ярослава Сейферта был социал-демократ, мать – католичка. В воспоминаниях и интервью он говорил, что оба этих полюса его жизни оставили в нем свой след. Пример отца как социального бунтаря и верующей матери научили его видеть мир не схематично, а в многообразии проявлений. Это был очень важный инструмент, полученный им еще в колыбели, который он использовал как в период протектората, так и в 50-е годы, когда он смог понять многое, что невозможно было сделать, оставаясь в рамках черно-белой риторики.
Крупнейший поэт чешского авангарда Витезслав Незвал вспоминал о своеобразном юморе Сейферта: «В своем последнем слове над гробом Иржи Волькера он сказал, между прочим, что хотел бы говорить над гробом каждого из нас, и был так серьезен, видя мысленным взором эту заранее импонировавшую ему картину, которую не поймет никто, не знающий Жижкова и только ему присущего юмора… У Сейферта этот юмор в крови, ему он обязан не одной прекрасной страницей в своих первых книгах, из-за него он рассорился с некоторыми друзьями, да, в конце концов, и с Деветсилом».
«Деветсил» – авангардистская группа, появившаяся в 1920 году на волне так называемого пролетарского искусства. Помимо Сейферта, в нее вошли теоретик искусства Карел Тейге, прозаик Владислав Ванчура, художница Тойен и другие представители художественной молодежи, ставшие славой и гордостью чешского авангарда.
Вскоре Сейферту становится скучно в пролетарском искусстве с его пафосом и революционной агитацией и он увлеченно обращается к новому направлению – поэтизму, которым деветсиловцы прокладывали путь на Запад, к футуризму, кубизму, дадаизму.
Красоты мира – ложь и для души обуза.
Прощайте! Наш фрегат за горизонт плывет,
в печали волосы ты распусти, о Муза,
искусство умерло, мир без него живет.
Ведь больше истины у бабочки взлетевшей,
твои тома еще личинкой съевшей,
чем у твоих стихов, изысканный поэт.
И этой истины ты не отвергнешь, нет.
(«Все красоты мира», пер. Ю. Кузнецова)
– В 1925 году в составе делегации Общества по сближению с советской Россией Ярослав Сейферт, Карел Тейге и поэт Йозеф Гора побывали в Москве и Ленинграде. Чехам демонстрировали глянцевую сторону Страны советов, и Тейге отзывался о Советском Союзе восторженно. А что увидел там Сейферт?
– Он взял на себя обязательство рассказать о поездке и сделал это в сборнике «Соловей поет плохо» 1926 года. Однако, в отличии от восторгов Тейге и Матезиуса, у него эта встреча с русской революционной реальностью предстает иначе. Сейферт настроен скептически, пишет с определенной меланхолией. Он отходит от программного оптимизма и витализма, который свойственен раннему "Деветсилу". И скептицизм чувствуется в его восприятии советской России. Мумия Ленина – это уже не символ вечно живого отца революции, а кто-то, кто действительно мертв.
На треснувших крошащихся опорах
поникли обветшалые дворцы –
былая слава исчерпалась.
Такую мы увидели Россию,
когда, как свечи, купола Кремля
горели золотом над гробом.
(«Ленин», пер. В. Корчагина)
В 1929 году Ярослав Сейферт вместе с Йозефом Горой выступили против сталинизации компартии Чехословакии. Было подписано «Письмо семерых». Из партии, куда поэт вступил еще в 1921 году, сразу после ее создания, Сейферта исключили, он лишился работы в газете, которою выпускало коммунистическое издательство. К коммунистам поэт не вернется уже никогда, а в 1937 году откликнется на репрессии в Советском Союзе стихотворением «Памятник Пушкину в Москве»: «Раньше вели на казнь к виселицам, сегодня все проще – пулю в затылок».
Не станет Сейферт и членом сюрреалистической группы, основанной в 1934 году Витезславом Незвалом под впечатлением от знакомства с мэтром сюрреализма Андре Бретоном. 33-летнего Сейферта уже не интересовали «измы», и он предпочитал следовать собственным курсом.
Итальянский богемист Анжело Рипеллино писал: «После скитаний по всемирному лабиринту Сейферт – представитель поколения, отстаивавшего экзотику, бегство в Париж и в дальние страны, (Константин Библ, его товарищ по группе "Деветсил", в своих странствиях добрался до далеких королевств Явы), возвращается в Прагу, рай души, город, которым он пренебрег. Ибо написано: "in nidulo meo moriar" ("в гнезде моем скончаюсь", Иов 29:18)».
– Что можно сказать о его поэзии времен протектората, немецкой оккупации?
– В годы войны вышла серия книг, к которым мы можем причислить и сборник 1938 года «Погасите огни». Также это, конечно, «Веер Божены Немцовой» (1940), «Одетая в свет» (1940), «Каменный мост» (1944) и, возможно, «Каска глины» (1945). Это книги, которые издавались, когда это еще было возможно. 1940 год еще можно в кавычках назвать в этом отношении "либеральным". В случае сборника «Карлов мост» – это уже была другая ситуация, действовала жесткая нацистская цензура. Сейферту не оставалось ничего другого, как скрыть свое поэтическое послание под маской, например, прогулки по Праге в состоянии опьянения. В «Веере Божены Немцовой» фигура чешской писательницы становится символом. Это хрупкая женщина, писательница, которая, однако, обладает огромной силой возрождения, обновления, обогащения родного языка – символа, проходящего пунктиром по всей чешской поэзии и культуре, особенно в военные годы. «Одетая в свет» – это гимн Праге, опьянение прекрасным городом, который способен дать чехам опору в тяжелые минуты. «Каменный мост» – здесь Карлов мост понимается как сила чешского народа в час страшной опасности. То есть это была часть игры, маска, которую был вынужден надеть не только Сейферт, но и другие писатели, публиковавшиеся в годы войны, чтобы дать народу надежду на то, что он сможет выжить в это тяжелое время.
– Вы в силу возраста не были лично знакомы с Сейфертом, однако о писателе осталось много свидетельств его современников. Каким человеком он был?
– Из воспоминаний я составил впечатление, что он был очень открытым, приветливым, дружелюбным, готовым прийти на помощь. Причем речь тут идет не только об обычном человеческом общении, но о напряженной атмосфере конца 50-х. На съезде писателей 1956 года вместе с Франтишеком Грубином он встал на защиту литераторов, которые в 1950-е подвергались гонениям, попали за решетку. Сейферт был одним из первых писателей, дистанцировавшихся от тоталитарной власти, разумеется, осознавая весь риск и возможные последствия.
– Как складывалась послевоенная судьба Сейферта? Он родился в начале века, так что ему вскоре исполнилось пятьдесят, у него была жена, сын, дочь… Известно, что, хотя он и прожил довольно долгую жизнь, он страдал от болезней, и это тоже наложило свой отпечаток, одновременно позволяя ему как бы отойти в сторону.
– С 1949 года Сейферт находился на пенсии по инвалидности. Это принесло сложности его семье, но одновременно дало определенную свободу. При этом, будучи близко знаком по межвоенному периоду с левыми, которые теперь стали властью, он, повторю, действительно пытался помочь арестованным писателям. Я имею в виду его большого друга Яна Заградничека. Он пытался облегчить их судьбу, добивался смягчения приговоров, старался помочь семьям арестованных поэтов. При этом Сейферту удалось то, что не удалось другим писателям – удержать очень хрупкие и шаткие отношения с официальной властью, структурами официальной культуры, и одновременно с самиздатом. В этом его судьба уникальна, однако безусловно это было несколько очень тяжелых десятилетий маневрирования, которое его опустошало. В 1970-е, в годы «нормализации», его произведения публиковались как в официальной печати, так и в самиздате. Это особые отношения, которые еще предстоит изучать.
– Какая поэтическая книга Сейферта – ваша любимая?
- Я очень люблю все его творчество, восхищаюсь его поэзией. Но если говорить о моих личных предпочтениях, то я бы выбрал начало 1930-х – «Яблоко с колен» и «Руки Венеры». Это первый образец той поэтики, которую можно назвать действительно сейфертовской. В конце 20-х он уходит от коллективистских лозунгов и очень настойчиво ищет собственный путь, как политический, так и поэтические. И эти два сборника – первый пример чистой сейфертовской образности, его уникального языка, особый уровень личного высказывания, открытости, простоты, которые одновременно не боится касаться самых серьезных вопросов человеческой жизни. Это как бурная река – где-то это романтические заводи, где-то великолепные узкие меандры. А «Яблоко с колен» и «Руки Венеры» – это свежая река, питающаяся ключами, течение которой – чистый сильный поток, и в этом волшебство этих книг.
Бурлит вино грозы,
струится неустанно
на зелень куполов,
на кровли и каштаны.
А старый водосток
на крыше островерхой,
чей треснувший висок
белеет под застрехой,
на всех прохожих льет
кипучую водицу,
в которой небосвод
уже успел отмыться.
И хоть на мой висок
готовы пасть седины
архангельским пером,
пометом голубиным,
люблю я до сих пор
проржавленные щели
в крещальне бедняков,
в их нищенской купели,
люблю я выйти в дождь
и, обнажась по пояс,
под кронами шагать,
от свежих струй не кроясь.
Хочу, как водосток,
быть пьяным неустанно
от браги грозовой,
от ритмов барабанных.
Да и с чего бы стал
бояться седины я,
коль бьют секунды в лоб,
что градинки хмельные?
(«Водосток», пер. Ю. Стефанова)