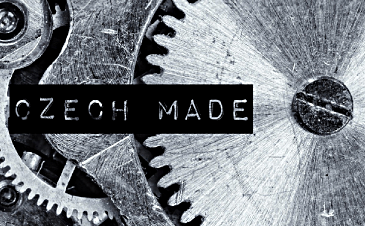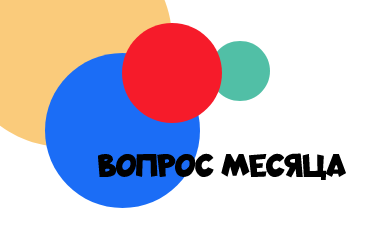«Хочу, чтобы Россия была цивилизованной страной…»
Мы обещали вернуться к Международной ярмарке «Миру книг», завершившейся в воскресенье в историческом здании промышленного дворца Выставиште и насыщенной полемикой, причем отнюдь не только литературного свойства, отчего посетители уходили загруженными не только книжками, но и раздумьями. Попытаемся донести до вас наиболее яркие фрагменты общения участников пражских дискуссий.
Мне хотелось бы задать вопрос с «нашего» берега. Тут сейчас много приехало умных людей из России, носителей мудрого и вечного. Хотелось бы нам понять, куда же идет современная Россия, понимает ли, куда она хочет вернуться: к истокам европейской культуры или все-таки быть противоположностью Европы? Не совсем понятно…Потому что сведения, которые мы получаем, очень разнообразные и противоречивые. Нам хотелось бы, чтобы Россия тесно общалась с Европой, чтобы Европа понимала Россию, а Россия – Европу, но это не совсем удается …
Писательница Евгения Доброва:
Знаете, люди, конечно, хотят в Европу, а что хочет Россия – если смотреть со стороны всех, кто ею управляет, я затрудняюсь ответить, что же нас ждет через несколько лет. Попадем ли мы в «Европу»? Неочевидно. И это смущает и пугает. И я сама хотела бы заглянуть в будущее. Разговоры на кухнях о судьбах Родины у нас ведутся постоянно, насколько я могу судить по своей семье и семьях своих друзей. Нас всех очень волнует этот вопрос. Для меня лично наиболее притягательна европейская модель будущего.Писатель Евгений Попов:
У писателей, оказавшихся в эмиграции, зачастую было больше информации o России, чем у тех, кто оставался там, потому что такое тотальное вранье… и судьбы диссидентствующих людей – это путь прозрения. Им пятнадцать лет врали, пока они додумались, что им врут. А в эмиграции все было понятно, и в этом смысле это была панацея, спасение для писателя.
В 1924 году Бунин пишет: «Подождем соглашаться на новый «похабный» мир с нынешней ордой», то есть это твердый и абсолютно ясный взгляд, и когда Бунин называет Ленина нравственным идиотом от рождения, он прав, в России тоже так многие считали, но считали, что у них какое-то завихрение – все эти частушки про Ленина, Сталина и Tроцкого…Невозможно ответить на вопрос, чего хочет Россия, полагает Евгений Попов, так же как невозможно понять, кто он, типичный русский – Брежнев или Солженицын или, может быть, Генрих Сапгир? Здесь, видимо, следует говорить о различных группах людей.
Евгений Попов:
Есть группы, которым, наоборот, нравится Северная Корея, а не Европа, но, думаю, Евгения права в том, что если говорить о массе, о простом народе, то он не настроен антизападно. Народ – не дурак и понимает, что если при советской власти ему давали кирзовые сапоги и серую телогрейку, то здесь можно купить дешевую китайскую красивую куртку».
В словах Е. Попова, которого критики окрестили самым веселым анархистом новой российской словесности, чувствовалась неподдельная тревога за Россию:«Я хочу, чтобы моя страна, которую я люблю и в которой я живу, была замечательной и была цивилизованной страной, понимаете? А не страной, про которую Бунин писал… правильно … хамы правили столько лет…»
В то время как в одной из литературных гостиных, в которую на время превратился отгороженный угол комплекса Выставиште, на другой гостевой площадке книжной ярмарки мой коллега из чешской редакции Вилем Фалтинек дожидался Андрея Битова, чтобы спросить у него – каким было отношение русского общества к русской эмиграции?
Андрей Битов:
Знаете что? Никакого общества не было. То, что вы называете обществом, это тоталитарный режим, это нельзя называть обществом. Говорить об обществе безнадежно. Те, кто были информированы, относились иным способом Общество не было ни о чем информировано, в этом суть тоталитарного режима. Было свое определение, чтобы никто ничего не знал, вот это и было общество, где никто ничего не знал. Сейчас, когда информация стала доступной, она опоздала – даже область признания, исследования, иногда –любви, вот Марину Цветаеву любят до сих пор как поэта живого. А философия, интеллигенция… это так же страшно как лагеря. Эмиграция – это казнь, казнь, я не знаю, как связать это воедино: сейчас и тогда...Редактор радиостанции Свобода Иван Толстой, он же модератор встречи, оттолкнувшейся от темы «Русская эмиграция в Чехословакии», обратился с вопросом и к чешскому литературоведу и профессору Милуше Задражиловой:
Милуше, ведь вы прожили в стране, где печатались эмигранты, где многие из них прославились, где были их книги, если и не в районных библиотеках –скажем, сборнички Цветаевой или романы Алданова, то, тем не менее, в Клементинуме по какой-то спецбумаге их было можно раздобыть и почитать. А уж, конечно, они были в руках у людей и в домашних библиотеках – немного. Мы знаем, что в Чехословакии послевоенные эмигрантские книжки уничтожались добровольно, на всякий случай, и в каком-то смысле страх здесь был больше, чем в Москве, в которую после войны из Прибалтики везли чемоданами книги и многие их читали.
Для вас существовала эмигрантская литература как эмигрантская, читали ли вы их, и чем она наполняла ваше читательское и литературоведческое сердце?Милуше Задражилова, отвечая на вопрос, вспомнила о своем детстве пролетарского ребенка, о везении на педагогов, которые, узрев в Милуше-гимназистке читательскую неуемность, отправили ее в пражскую Славянскую библиотеку – почитать Мережковского.
Милуше Задражилова:
«И я ходила в библиотеку, брала Мережковского, брала других и не поняла, что это запрещено. И в виду этого открывался новый мир: Бердяев и русская философия. Дошла довольно далеко и начала с ребятами изучать, в 1965 году у нас возникали дипломные работы о Mережковском, Ремизове – в Тарту нам даже завидовали. Мне было легко в этом».
И только в 1968 году поняла, что все – гораздо сложнее, признается Милуше Задражилова.
Фото: Лорета Вашкова