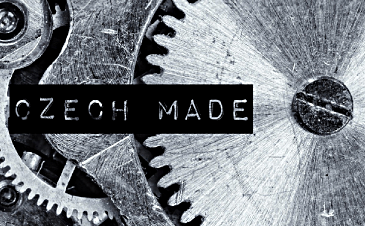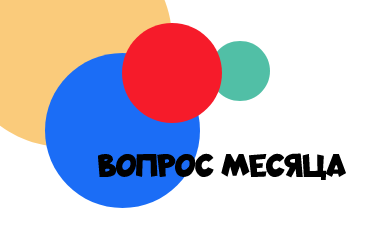М. Розовский: События 1968 г. проходили также через наше сердце
С режиссером театра «У Никитских ворот» Марком Розовским, побывавшим в Праге на фестивале чешско-немецко-еврейской культуры «9 врат», мы беседовали не только о перспективах возможного сотрудничества между пражским и московским театрами (напомню, что главной темой фестиваля в этом году стал диалог между Чехией и Россией, Прагой и Москвой), но также коснулись темы свободы - свободы общества и творчества. Предлагаем вашему вниманию часть этой беседы.
- Я вернусь в прошлое. В то время, когда Вы были еще невыездным, ваша пьеса «Кафка: отец и сын» была поставлена на сцене нью-йоркского театра Ла Мама и сумела завоевать успех. Что вас задело в творчестве Кафки?
Вы, знаете, во-первых, Кафка берет за душу и ведет тебя, и это раненая душа, болезненная душа, душа расщепленная, очень страдающая, одновременно душа, живущая большими страстями. Это всегда очень личностно и трагично. В основе моей пьесы лежит письмо отцу, которое Франц написал, но так и не отправил. Это история его женитьбы, то есть документальная, биографическая история, которая превращается в нечто фантасмагорическое, то есть, как это всегда бывало у Кафки в его произведениях, потому что кроме письма отцу, в моей пьесе использованы некоторые мотивы новеллы «Приговор», где действует сын и отец. Это пьеса для двух актеров. Да, действительно, она была поставлена в театре Ла Мама. Я не видел этого спектакля, хотя мне прислали очень хорошие рецензии в свое время, но ведь до этого я поставил эту пьесу на сцене Московского Художественного театра, на малой сцене МХАТа. Тогда еще Олег Николаевич Ефремов руководил театром и дал мне эту возможность.
Это было в тяжелейшее советское время, когда еще Брежнев руководил страной, а в лучшем театре страны, по крайней мере, в самом авторитетном, я ставил Кафку. И, представьте себе, десять раз мы успели показать спектакль публике, после этого спектакль просто задушили. Министерство культуры приказало больше не играть этот спектакль, и МХАТ был вынужден подчиниться этому. Причину - потрясающую - я узнал только впоследствии. Причину, почему пьеса была запрещена во МХАТе. Сегодня об этом можно рассказывать открыто, здесь вам будет это небезынтересно. Посольство Чехословакии обратилось в ЦК КПСС с таким вопросом: Как же так, мы здесь, у себя в Чехословакии, Кафку запрещаем, он у нас нежелательный писатель, и вообще Пражская весна начиналась с дискуссий о Кафке, а вы, наши дорогие старшие советские братья (я, может быть, вульгаризирую, но смысл был именно такой), вы у себя в МХАТе позволяете играть Кафку. Теперь, получается, и у нас можно будет играть его пьесы?
Вот такие были нравы среди партийной камарильи, которая смотрела на Москву, и, так сказать, щелкала каблуками и низко кланялась Москве в то время. В результате вмешательства чехословацкого посольства в Москве мой спектакль был закрыт.
- И вам не оставалось ничего другого, как только передать эту пьесу за границу, и помогла этому, насколько я знаю, случайность?
Приезжала к нам тогда группа американских режиссеров, и я передал им пьесу - без надежды, что она будет когда-нибудь поставлена, и вдруг мне сообщают, что эту пьесу перевели в США и поставили. Меня тут же вызывают в министерство культуры и спрашивают - как попала ваша пьеса в Нью-Йорк? Я отвечаю - очень просто, я ее передал. Они: - А какое у вас было право? А я - разве у меня нет этого права? Это моя пьеса, что хочу, то и делаю. В общем, они разъярились, но тогда уже пьеса была запрещена, и мне терять было нечего.
Конечно, я мечтал бы, чтобы эту пьесу поставили здесь, в Праге, с чешскими артистами, потому что само имя Кафки связана с Прагой, и его жизнь во многом связана с Прагой, и не только жизнь, но и смерть. Посмотрим, может это им получится.
- Марк Григорьевич, значит, столько шума из-за Кафки, а ваша встреча с Гавелом в 1968 году - это обошлось?
Это была встреча коллег, я бы так сказал, потому что я тогда руководил студенческим театром московского Университета, и вместе с другом, драматургом Виктором Славкиным мы как раз во время Пражской весны были в Праге и видели все собственными глазами, и очень переживали за все, что здесь происходит. Помню и историю с Яном Палахом, все это проходило также через наше сердце, поверьте, поверьте, это так.
Тогда же один из моих друзей, журналист газеты MLADA FRONTA, устроил мне встречу с моим коллегой по театру, драматургом Вацлавом Гавелом. В тот момент я и знать не знал, и ведать не ведал, также как мой друг Виктор Славкин, с кем мы встречались. Я был у него дома, он даже подарил мне свою книгу, я ее спрятал, потому что боялся, что ее отнимут в аэропорту - что у вас за книга? Правда, и тогда я ходил в Чиногерни клуб, смотрел спектакли по пьесе Алены Вострой. Незадолго до нашего приезда Олег Табаков блистал здесь в роли Хлестакова в «Ревизоре» и я помню потрясающий финал пражского спектакля «Ревизор», когда вдруг по-русски во время немой сцены артисты пели «Степь, да степь кругом». Это был такой щемящий момент, душераздирающий. Это было замечательно придумано, так что есть что вспомнить.
-Довелось ли вам ближе познакомиться с творчеством Гавела?
Актер нашего театра, студии «Наш дом», Александр Филипенко в одиночку исполнял его пьесы на нашей сцене в свое время, когда началась перестройка, он делал это как монодрамы, поэтому какие-то пьесы мне известны. Сегодня уже Вацлав Гавел занимает общественное положение, и я не знаю, ставятся ли еще его пьесы?
- Еще ставятся.
Это хорошо, а он пишет новые пьесы?
- Пока о новых пьесах не слышно, скорее это эссе.
Писать пьесы - это нужно от всего отрешиться, отвлечься и, конечно, это ему не просто все сочетать.