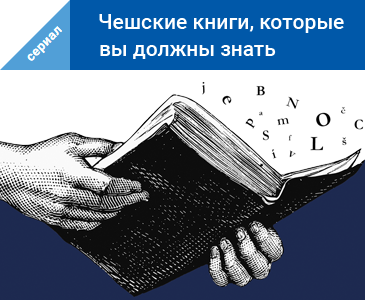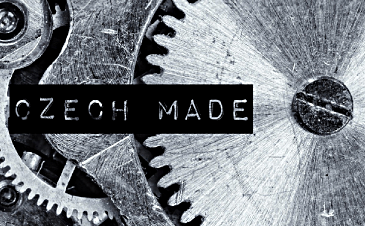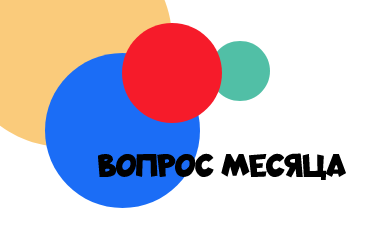Смерть искусства – расплата за благополучие?
Сегодня мы продолжим беседу с выдающимся литовским поэтом, переводчиком и ученым Томасом Венцловой, недавно посетившим Прагу по случаю выхода на чешский язык сборника его стихов Čas rozpůlil se... / Įpusėja para. Разговор о подмене культуры, смерти, посягающей на искусство, критериях истинности поэзии, а также о литовском вкладе в бродсковедение.
— Более полувека вы также пишете дневники — не знаю, были ли там какие-то перерывы... Сохранились ли в них записи, касающиеся периода общения с Бродским и Ахматовой еще до вашего отъезда на Запад?
— Вот, к сожалению, там как раз перерыв. Об Ахматовой я написал довольно краткие воспоминания, они напечатаны, но я тогда не вел дневника. Дело в том, что когда умер Борис Леонидович Пастернак, которого я очень почитал и имел с ним честь однажды разговаривать (трудно сказать «разговаривал»: он говорил, а я слушал и был в таком несколько парализованном состоянии) – вот это описано в дневнике, но когда он умер, я был на его похоронах и у меня получился, как это говорят по-английски, writer's block. Я не смог больше писать дневник и лет шесть не писал.
Это были очень интересные годы. K сожалению, они не описаны. Я жил в Москве и общался тогда с Ахматовой, тогда же я познакомился с Бродским — это, к сожалению, не описано. Но все-таки были какие-то разрозненные записи, по которым я сделал воспоминания об Анне Андреевне Ахматовой, а о Бродском потом, через шесть лет, я опять начал писать. И там уже о Бродском много, особенно об эмигрантском периоде Бродского — записаны разговоры с ним, его остроты. Причем дневник я пишу по-литовски, но разговоры, если они были по-русски, то там они по-русски, если по-польски, то по-польски. Дневник пока не опубликован, и я думаю, что было бы несколько неподходящим делом публиковать его до моей смерти, но использовать его для воспоминаний я могу и, конечно, это делаю. Какие-то куски из них даже опубликованы, но это я сам выбираю, ничего не меняю, но делаю купюры, если речь идет о вещах интимных – не моих интимных, которых там очень мало, но других людей. Вещи, которые, скажем, их потомки или они сами, будь они живы, не обязательно хотели бы видеть в печати. О том же Бродском. Но после моей смерти, вероятно, я думаю, это – томов десять, огромный дневник, — будет опубликовано полностью.
— В Литве на литовском языке вышла также книга «Связи Иосифа Бродского с Литвой. Воспоминания друзей», которую составил известный физик и друг Бродского Ромас Катилюс. Не знаю, вышла ли она на русском уже?
— Готовится и выйдет.
— А когда?
— Этого я не знаю, это надо спрашивать Ромаса Катилюса — это мой одноклассник и очень близкий друг, и очень близкий друг также Бродского. Бродский у него просто жил, когда бывал в Вильнюсе. Катилюс по-прежнему живет в Вильнюсе и готовит русское издание — там, в основном, мемуары разных людей — не только литовцев, но также американцев и англичан. Они нигде, кроме этой книги, пока не опубликованы. Вот это все появится на русском и будет, несомненно, вкладом в бродсковедение. Когда конкретно? Будем надеяться, что в течение года или двух.
— Гидон Кремер, тоже, к слову, недавно побывавший в Праге и концертировавший здесь со своим ансамблем Kremerata Baltica в рамках фестиваля «Пражская весна», в интервью, которое могло быть опубликовано примерно год назад, выразил такую тревогу: «Мы все сталкиваемся с ядовитым развитием нашего музыкального мира, в котором так называемые звезды значат больше, чем творчество, иерархия больше, чем подлинный талант, цифры больше, чем звук» (вольный перевод – ред.) Наблюдаете ли вы нависание такой угрозы также в мире художественной литературы?
— Вы знаете, в музыке, мне кажется, это было более-менее всегда. Всегда в музыке были звезды, которые необязательно были лучшими музыкантами своей эпохи. Система звезд, система иерархии, которая не всегда соответствует гамбургскому счету (отбору самых значительных – прим. ред.), как говорил Шкловский, это в музыке очень характерно. И то, что происходит сейчас, не обязательно что-то очень новое.
— Я бы, тем не менее, согласилась с Кремером в том, что это взвинчено до максимума.
— Это может быть в области поп-музыки, а в области серьезной, высокой музыки все-таки, я думаю, это примерно в том же размере, в каком это было всегда.
— Думаю, что и в этой области, увы, взяты на вооружение привычные методы раскручивания звезд.
— Может быть, я не специалист, я даже не очень музыкальный человек, поэтому, я, пожалуй, не буду об этом судить. У меня в музыке свои вкусы — я терпеть не могу поп-музыку, плохо воспринимаю джаз, рок и тому подобные вещи и плохо воспринимаю романтиков: Чайковского, Бетховена, Шуберта, а воспринимаю то, что было раньше — Гайдна, Перселла, Баха, Генделя, и всегда интересовался додекафонией. К этому меня подвиг Андрей Волконский, с которым я был близко знаком в Москве и которого сейчас, увы, тоже нет в живых. Мы тогда писали шуточные пьесы. Они заключались в том, что имена всех действующих лиц, названия и реплики начинались с одной буквы. Это было довольно трудно, особенно на букву «ы». Мы сочинили пьесу и назвали ее «Ыркутская ыстория».
За что мы расплачиваемся смертью искусства?
— Часто ли вы сталкивались на своем литературном поприще с людьми, которые были сломлены гениаманией?
— С людьми, считавшими себя гениями, которым это мешало работать?
— И развиваться дальше…
— Да, я, несомненно, таких знал, в том числе и в Литве, но я, пожалуй, не буду называть фамилии. Но сам я никогда себя гением не считал и, по-моему, меня никто не считал, но, конечно, литература художественная, к сожалению, немного как-то отмирает. Она превращается либо в очень эзотерические тексты, которые пишутся непонятно зачем и непонятно для кого, либо это коммерческая литература. И я даже думаю, что дело вот в чем. Недавно кто-то подсчитал, что 2013 год, по некоторым параметрам, в глобальном смысле был лучшим в истории человечества: меньше всего уровень детской смертности, увеличилась продолжительность жизни. Меньше всего, как ни странно, криминала, раньше его бывало больше, если взять в глобальном плане, меньше всего голода, меньше всего людей погибают в войнах, то есть многое действительно неплохо. И вот надо за это расплачиваться — мне подумалось, что мы, пожалуй, расплачиваемся за это смертью искусства.
Вместо живописи и скульптуры остались инсталляции — это нечто другое и вряд ли лучше, чем классическая живопись и скульптура. Вместо музыки осталась попса либо очень эзотерические вещи, которые не каждому нужны, а вот Бах или Шопен, которого я не очень люблю, — это остается нужным и востребованным, и слава Богу. А литература — то же самое, искусство как-то отмирает в последние годы, и хотя останется кто-то, кому серьезное искусство будет всегда нужно, эти люди будут не очень многочисленны — впрочем, настоящие ценители всегда были немногочисленны. Так что ничего особо нового и особо страшного в этом смысле тоже не происходит.
— Примем ли мы смерть искусства в качестве расплаты за относительно благополучную жизнь, входит ли в нее также отрыв поэзии для поэтов и поэзии для читателей, расстояние между которыми увеличивается?
— Несомненно увеличивается. Вообще увеличивается расстояние между культурой массовой и эзотерической. Это не самое лучшее, что может происходить. Мне кажется, что массовая культура и высокая культура должны как-то взаимодействовать, как-то друг друга оплодотворять, в XX веке это было довольно часто — кино было культурой массовой, а стало эзотерической, хотя в нем остался и массовый компонент, его очень много. Этот разрыв есть, он, пожалуй, больше, чем надо бы, но, будем надеяться, мы увидим и нечто другое в будущем.
«Слава Богу, много еще таких текстов, от которых мурашки идут по коже»
— Каким вам представляется главный критерий поэзии, ее содержательного составляющего?
— Вы знаете, это очень трудно сказать, но можно сказать, что поэзия — это язык, возведенный в квадрат или куб, или даже в четвертую степень — если это имеет место, то это хорошая поэзия. Вы знаете, мой приятель, польский поэт Станислав Баранчек, как-то сказал — он это, правда, применил к поэтическому переводу, но это можно применить к любым стихам, что есть такой совершенно интуитивный и несомненный критерий — если ты читаешь текст, и у тебя мурашки по коже идут, значит это хорошо. Если это твой собственный текст, то это, скорее всего, самообман, но если это чужой текст, то это довольно четкий критерий.
Но, слава Богу, в XX веке, почти до наших дней, много еще таких текстов, от которых мурашки идут по коже. Это и Пастернак, и Ахматова, и Бродский, и многие поэты западные, но не буду всех перечислять, и польские, есть и литовские. Вот этот критерий я, пожалуй, считаю главным при восприятии поэзии.