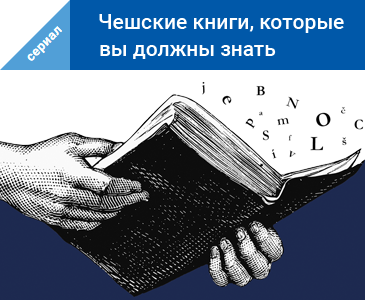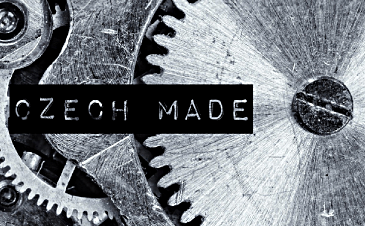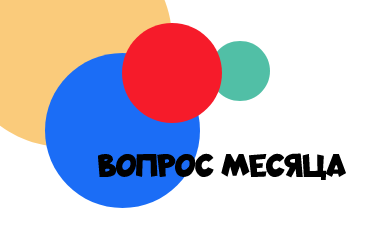Кирзовый сапог под конем святого Вацлава
21 августа исполняется ровно восемь месяцев со дня смерти видного российского богемиста Ирины Порочкиной, многие десятилетия исследовавшей культурные и исторические связи между славянскими народами. В посвященной филологу программе («Ты не любишь, когда останавливаются часы…») мы упоминали многие факты ее чрезвычайно насыщенной биографии, не затронув одной из важных страниц. Ирина Макаровна, как и ее муж Игорь Инов, волей профессии оказавшись в августе 1968 года в Праге, глубоко переживали появление на ее улицах советских танков.
Ссоры между славянскими народами – глубоко в сердце
По просьбе ученицы Ирины Макаровны Катерины Айзпурвит сын этой петербургской четы ученых Александр Иванов написал небольшие воспоминания об этих днях. И сама Ирина Порочкина рассказывала своей ученице о впечатлениях, которые ей довелось испытать в те драматичные для Чехословакии дни.
Катерина Айзпурвит:
«Наверное, я не все запомнила, потому что надеялась, что Ирина Макаровна напишет воспоминания, и я это просто прочитаю. Надо сказать, что бескомпромиссность ее как ученого распространялась и на моральную бескомпромиссность. Для нее никогда не стоял вопрос - это подтверждает и ее семья, о вступлении в Коммунистическую партию, это было просто невозможно. Вторжение в Чехословакию было огромным ударом для нее и для ее мужа, и они не скрывали свое негативное отношение к этому. В Чехии многие обращались к Ирине Макаровне "paní profesorko", хотя профессорское звание ей не было присвоено. Она оставалась доцентом и не защитила докторскую диссертацию».
Скорее всего, сугубо по той причине, что не стала членом единственной на ту пору партии?
«Я не берусь говорить точно об этих причинах, но, скорее всего, они сыграли, конечно, свою роль. Ирина Макаровна была, мне кажется, немножко человеком из XIX века, таким подвижником-идеалистом, но вместе с тем очень требовательным к себе и другим ученым. Она не терпела, например, ни малейшей фальши. При этом была очень современной. Я, например, совершенно не чувствовала нашу разницу в возрасте, мы могли часами говорить о политике. Она очень тяжело принимала отступление России от демократии и в последнее лето своей жизни – события на Украине и говорила, что российские власти на долгие-долгие годы и десятилетия поссорили два очень близких славянских народа. Она была человеком, для которого именно славянские связи имели очень большое значение».
Воспоминания Александра Иванова, сына И. М. Порочкиной и И. В.Иванова (Инова)
«В конце июля 1968 года мои родители отправились в Прагу для участия в летней школе славистики. Меня прихватили с собой, решив показать единственному сыну страну, с которой была связана вся их жизнь. Мне в ту пору было 13 лет, я уже успел полюбить путешествия на поездах. Первые дни в Праге прошли в бесчисленных прогулках с родителями по их любимым местам. Потом, с начала августа, когда началась Школа, я был уже полностью предоставлен самому себе. Со временем мне надоело сидеть одному в комнате общежития Карлова университета, где нам предоставили жилье на время проведения Школы.
Тогда я, 13-летний мальчик, вооружившись подробнейшей картой города и фразой “Богужэл нерозумиим чески”, принялся изучать город самостоятельно, целыми днями шатался по улицам малознакомого города, возвращаясь в общежитие только сильно проголодавшись или под вечер. Лето, теплынь, в атмосфере города веет какой-то беззаботной легкостью, весельем… Так продолжалось до одной беспокойной ночи в конце августа, когда постояльцы университетского общежития были разбужены посреди ночи громким гулом, доносившимся с неба. Как оказалось, это были самолеты, целая армада стран Варшавского договора, десантировавших оккупационные войска. У меня остались крайне обрывочные воспоминания о последовавших днях. На первых порах – это тревожные голоса дикторов каких-то не занятых и не разгромленных сразу радиостанций, перечислявших страны Варшавского договора, которые ввели свои войска в Чехословакию; также помню многочисленные танки на улицах Праги. Я, конечно, мало понимал суть происходившего, только ощущал тревогу, которая теперь царила в городе. Спешившие по своим дела люди старались проскочить быстрее мимо танков, да меня все время обрывали при маломальской попытке заговорить : ”Mlč!”. Говорить по-русски на улицах оккупированного русскими города было если не опасно, то как-то не к месту.
Еще запомнилась такая деталь: на Вацлавской площади под передней поднятой ногой коня св. Вацлава болтался кем-то привязанный советский армейский кирзовый сапог. Сапог под копытом коня был символом будущей победы чешского народа над силами зла. С началом оккупации Школа славистики прекратила свою работу и через несколько дней мы сели в поезд и отправились восвояси в Ленинград. С самого начала и до конца жизни родители тяжело переживали трагедию 21 августа 1968 года и последовавших за этим днем событий в обожаемой ими Чехословакии».