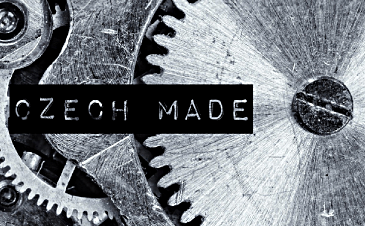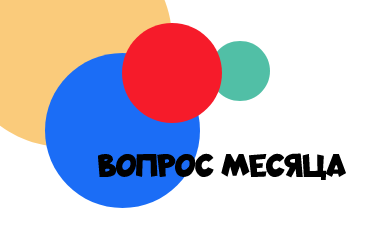Сооснователь «Мемориала» Ирина Щербакова: «С иллюзиями о возможности заключения мира при путинском режиме надо расставаться»
По приглашению Отдела стратегических коммуникаций администарции правительства Чешскую Республику посетила соучредитель организации «Мемориал» Ирина Щербакова. Radio Prague International она рассказала о том, как изменилась ее жизнь с отъездом из России, что этому предшествовало, и где Россия «свернула не туда».
- Ирина Лазаревна, уже два с половиной года вы живете не в России. Как Вам кажется, что человек утрачивает в эмиграции и что приобретает?
«Что человек утрачивает в эмиграции? Ну, во-первых, все-таки, особенно для человека такого, как я, у которого очень большая, длинная жизнь прошла в России, даже не только в России, в Москве, и даже не только в Москве, но, что вообще бывает довольно редко, фактически в квартире, где я родилась. Это очень редко даже для москвичей. Вообще я уезжала ровно спустя сто лет, как мои дедушка и бабушка приехали в Москву. Поэтому все, что сто лет окружало мою семью – и книжки, и картины, и архивы – осталось там, а я уезжала с двумя чемоданами. Там осталась вся моя жизнь. Там остались многие друзья, и в тот момент еще многие коллеги, которые потом уедут. Там остались могилы моих родителей, бабушки и дедушки. Там в то время все-таки еще оставался «мемориальский» дом, который потом был у нас отобран и ликвидирован. Там осталась вся жизнь, и там остался очень большой смысл жизни, и моей работы. Последние почти 30 лет моя жизнь, так или иначе, была связана с «Мемориалом», потом последние 20 лет – уже очень сильно с «Мемориалом». Это был смысл жизни, потому что я отвечала за историческую, просветительскую часть «мемориальской» работы, я была председателем вот Научно-информационного просветительского центра «Мемориал», отвечала за работу со школьниками, за выставки, книжки».
«Что я приобрела, уехав, или как изменилась моя жизнь с отъездом? Я уехала на самом деле не из-за страха. Поскольку я все-таки руководила просветительскими программами, то уже несколько лет с телевизионных каналов, с НТВ, лилась ужасная гадость, что мы разлагаем, и я разлагаю школьников, и что мы иностранные агенты, и что я встречаюсь с какими-то немецкими послами, министром иностранных дел, получаю от него какие-то инструкции. Такая всякая дрянь сопровождала меня в течение последних лет все время. Выходишь из «Мемориала» уже в 10 вечера, выпрыгивают какие-то шавки из-за кустов, девахи НТВшные с заученными вопросами, кто вам платит и так далее. Но я бы из-за этого не уехала. Я бы даже не уехала после ликвидации «Мемориала». Я уехала, потому что в эту ночь, 24 февраля 2022 года, когда пришла смс-ка от моей дочери: «Мама, они бомбят Киев», в 4 часа ночи, меня охватило такое бешенство, такой страшный гнев, такая ненависть, что я поняла – остаться я там не могу. Это такая злоба, и такое бешенство, такое унижение, что вот эти существа сломали не мою жизнь, а жизнь такой огромной страны, ввергли ее в такую катастрофу, из которой когда она выберется, я не знаю. И вот это такое растоптанное ощущение и даже унижение, я поняла, что я жить там все равно не смогу. Кроме того, еще мой муж, который вечно ходил на всякие пикеты, демонстрации, его задерживали, штрафовали, а в его возрасте это вообще просто опасно. Когда я уехала, не то, чтобы мое чувство ослабло по отношению к Путину и другим, оно осталось прежним, но просто от того, что я все-таки могу об этом говорить, что я могу писать, выступать, и что, может быть, в каком-то смысле я могу приносить какую-то пользу, сняло с меня вот эту вот почти истерическую эмоциональную ненависть, которая не дала бы мне все равно там жить. Каждый реагирует по-разному. Наш Олег Орлов решил, что он пойдет в тюрьму. На это я решиться не могла. Он решил, что для него не поздно, я сочла, что для меня это уже по возрасту тяжело. Уехав, я приобрела вот это. Это, конечно, чувство безопасности. Когда меня спрашивают, не боитесь ли Вы чего-нибудь, это, конечно, звучит для меня довольно смешно, потому что с тех пор, как к нам много раз приходили, искали мужа моего, после всяких демонстраций, предупреждали. Дома у нас обыска не было, но в «Мемориале» я была при очень длинном обыске. Но приходить они приходили, угрожать они, конечно, угрожали всячески. И в последнее время я как-то подсознательно вставала как можно раньше, то есть даже месяцы, недели до войны. Они приходят рано, как правило, так, чтобы они не застали меня врасплох. Уже одетая, умытая, чтобы не в халате дверь открывать. Вот такое неприятное чувство ушло совершенно. И это даже не страх, потому что мы уже все это очень хорошо знали, и многие коллеги проходили, просто отвращение».
«Сейчас я пытаюсь каким-то образом объяснить людям, почему с иллюзиями о том, что можно заключить мир, надо расставаться. Ну, может быть, войны всегда оканчиваются миром, но если это будет тот мир, в котором Путин всем покажет, что он одержал какую-то победу, то это… Это не конец сюжета, это не обеспечение европейской безопасности, и это всех коснется в той или иной форме – тысячи беженцев, с которыми непонятно, как будет справляться европейское общество; разные угрозы, которые на разных границах и в разной форме будут сопровождать жизнь в Европе. Я в этом совершенно уверена, и поэтому моя задача объяснить людям, что, к сожалению, не надо питать никаких иллюзий по поводу того, что представляет из себя Россия, пока в ней путинский режим».
- Когда Вы начали в 70-е годы заниматься вещами, связанными с расследованиями преступлений сталинизма, тогда Вы представляли себе, какой это путь, и что в будущем, возможно, этим станет заниматься действительно опасно?
«Ну, когда я начала этим заниматься, это было опасно. Это, конечно, было уже не сталинское время, а уже очень дохлая диктатура. Она, конечно, оставалась формально, сама эта система была создана Сталиным – номенклатура, подбор кадров, и многое-многое другое. Оттепель все это смягчила, но политическая и государственная структура оставалась прежней. Конечно, деятельность КГБ тогда уже нельзя было сравнивать с периодом массовых репрессий, но она присутствовала, и были аресты, обыски, ссылки. Я была тогда совсем молодой женщиной, росла и вступала в жизнь с идеей десталинизации. В те времена уже не верили в кардинальные изменения политической и государственной системы, но надеялись на ее некоторое возможное реформирование, а самое главное – на просвещение. Это помогало каким-то образом существовать российской, советской интеллигенции, часть которой противостояла системе хотя бы в том смысле, что даже если это были люди с верой в советскую власть, они были за ее гуманизацию, за «социализм с человеческим лицом», как это было названо во время Пражской весны. После «оттепели» были «заморозки», но все-таки идея того, что это можно достичь с помощью просвещения, что если люди узнают правду о том, что было на самом деле, что было в ГУЛАГе, что там люди пережили, то это может стать какой-то прививкой для общества. И поскольку это была тема очень закрытая, то она людей интересовала и очень волновала».
Беседы с бывшими политзэками записывались на магнитофон от Солженицына
«К тому моменту опубликована была фактически только одна вещь – «Один день Ивана Денисовича» в 1962 году. Кстати, очень большое значение для просвещения имели передачи, которые шли по «Радио Свобода». Это был очень важный источник – и «Радио Свобода», и «Голос Америки». Радиостанции играли огромную просветительскую роль. А мое желание было в том смысле эгоистическое, что я сама хотела как-то себе представить и узнать как можно больше о судьбах этих людей, о том, что они пережили. И я начала вот ходить и записывать с тех пор, как у меня появился портативный магнитофон Philips в 1979 году, он даже сохранился в каком-то музее. Это было совершенно чудо техники! Потому что тогда существовали лишь огромные советские магнитофоны с огромными лентами. А тут вопрос был только в кассетах. Советские были очень плохого качества – они зажевывались страшным образом, от этого записи были плохими, и многие из них поэтому очень трудно восстановить. Кстати, магнитофон мне достался тоже очень интересным способом, потому что купить нечто подобное в СССР было, конечно, нельзя. Вокруг Солженицына было много людей, которые по-разному ему помогали. Кто-то связывал с Западом, кто-то передавал какие-то вещи, кто-то занимался делами, связанными с издательствами, рукописями и так далее. В общем, был целый такой круг людей, которых он в своей автобиографической книге «Бодался теленок с дубом» называет «невидимками», но раскрывает потом портреты, там напечатаны фотографии. Моя мама была одной из таких «невидимок». Мамина ближайшая подруга, с которой они вместе выросли в Москве, дочка австрийских коммунистов, Елизабет Маркштайн, была очень известной переводчицей русской литературы. Она очень сильно помогала Солженицыну в его издательских делах, а также была первой переводчицей на немецкий язык книги «Архипелаг ГУЛАГ». Когда Солженицын эмигрировал, спустя какое-то время удалось уехать его жене Наталье Дмитриевне, то этот магнитофон был такой подарок мне, потому что все знали, что я хочу в какой-то форме этим заниматься. С тех пор и до перестройки я ходила и записывала людей, сначала которых я знала, и далее – по цепочке. Я записала довольно многих, и многие записи у меня были не расшифрованные, некоторые кассеты были подписаны очень условно, с бумажками, а не прямо на самих кассетах, потому что я боялась, что если какой-то обыск, то будет сразу видно, кто эти люди. Они, конечно, очень боялись, и я должна была им обещать, что я без их решения я ничего с этими записями делать не буду. Им хотелось оставить след, но они боялись всяких западных публикаций и возможных неприятностей. Поэтому записи у меня лежали в разных местах, и, к сожалению, с этими бумажками потом было не так легко все восстанавливать».
Путь в «Мемориал»
«В Москве был определенный круг людей, и в 1987-88 году появилась вот такая группа, которая называла себя «Памятник», то есть «Мемориал», выросшая из первого перестроечного движения и борьбы за правду и демократизацию. Когда возникла эта инициатива, то я была готова говорить о памяти в смысле своей темы. Что представляет из себя память вот тех, кто пережил ГУЛАГ, что это за люди, как это на них отразилось, каков был их опыт. Это было тогда очень важно, во-первых, многие из них еще были живы к этому моменту. Я помню свою первую «лекцию». Тогда собралось человек 20 этих активистов в каком-то подвале, по-моему, это было лето 1988-го, и я рассказывала, что я за эти годы узнала, и что это за люди, и о чем они вспоминают, и как в их глазах выглядит история ГУЛАГа. Вот Олег Орлов в каком-то интервью, еще до тюрьмы, эту историю вспомнил, хотя я ее уже забыла. Так что вот такой был у меня путь в «Мемориал».
- Одной из главных целей «Мемориала» было не допустить возвращения тоталитаризма. Где, по Вашему мнению, что-то пошло не так, где мы свернули не туда?
«Это вопрос о 1990-х, и сторики тут могут немножко с ума сойти, потому что, хотя, история не повторяется, но, когда что-то кончается ужасной неудачей, поражением, это всегда вызывает чудовищные споры. Как страшно спорила русская эмиграция после 1917 года, кто оказался, неправ, и кто оказался виноват. И так спорила, что стреляли друг в друга. И сейчас – какие споры, какие просто бои идут вокруг 90-х, и друг друга обвиняют, кто оказался виновен. Я думаю, что это, если говорить просто и быстро, а это очень сложная тема, то, во-первых, мне кажется, - и это делает ситуацию не менее трагической, а наоборот, еще ее гораздо более трагической и ухудшает, - что был шанс. Сейчас одна из распространенных точек зрения заключается в том, что шансов вообще не было, что это была иллюзия, вся эта перестройка, что Россия обречена, что с таким наследством, с таким, с такой вот, так сказать, историей, с таким обществом надеяться тогда вообще было нельзя, что все равно должно было вот так вот, так сказать, вернуться на, я бы сказала, не на прежний путь, нет. Просто это совсем возвращение... Только в какой-то мере к прежнему пути. На самом деле это, так сказать, нечто, в каком-то смысле, нечто новое».
Полную версию интервью с Ириной Лазаревной Щербаковой слушайте в аудиоформате.