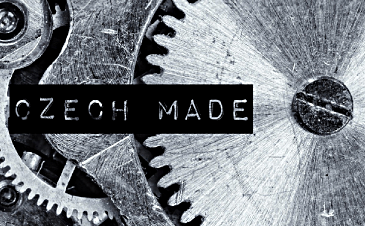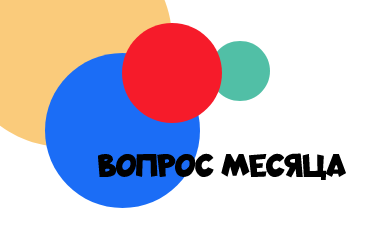Владимир Сватонь: «Я считаю Россию и русскую культуру частью европейской культуры»
В одной из предыдущих рубрик «Портреты» мы начали знакомство с одним из ведущих чешских литературоведов, профессором Карлова университета Владимиром Сватонем. Сегодня мы продолжим нашу беседу, и расскажем о том, что привело этого ученого к русской литературе и каковы, по мнению Владимира Сватоня взаимоотношения между культурами России и Европы…
В опубликованной в 2004 году Вашей книге «Трансформации старинных мифов» приводится интервью с Йиржи Травничеком, которому вы ответили на ряд вопросов, в том числе, из области взаимоотношения литературы немецкой и русской...
«Я к немецкой литературе пришел через литературу русскую, так сказать. Хотя русские 19 века ориентировались сильно на Францию, но, все-таки, основная модель их мышления была общая с Германией. Можно высказать парадоксальное утверждение, что «Война и мир» Толстого является воплощением мечты немецких романтиков о будущем романе. Это может казаться совершенно невозможным, но я думаю, что они мечтали о романе, как о потоке человеческих событий, происшествий второстепенных и важных на фоне исторических событий. Это была мечта немецких романтиков, и думаю, что, не зная о них и не желая этим заниматься, осуществил это Лев Толстой в своей грандиозной «Войне и мире»».
В 20-е годы 20-го века прозаик и драматург Лев Лунц, которого называли русским Шиллером, призывал своих собратьев по перу обратиться к построению фабулы в романах по западному образцу. Как вы думаете, что он имел ввиду?«Фабула русских романов отличается от западной. Русский роман строится не на интриге, на желании какой-либо сильной личности проявить себя, осуществить собственные намерения. Обыкновенно этот человек оказывается на обочине жизни, основной поток которой немного неорганизован, расплывчат, но, я думаю, что в этом особенность русского видения мира, воспринимать его в космическом масштабе. В некоторой степени индивидуалистское строение романа у Гончарова. Он, мне кажется, ближе всего к западно-европейскому роману построения, его прозы. Но если взять такие произведения как «Мертвые души», «Герой нашего времени», «Война и мир» или романы Достоевского, хотя они и отличаются каким-то таинственным и сложным действием, все-таки оказывается, что эти действия остаются в стороне от хаотических устремлений самих героев».
Вопрос, который стал одним из главных в ходе прошедшей на пражской книжной ярмарке встречи российских писателей с чешскими литературоведами, а именно отношения России и Европы, принадлежности российской культуры к культуре европейской...
скажем, Руссо или немецкий романтизм. Но, все-таки, для русской культуры стали эти течения ведущими, я думаю, что в этом ее вклад в культуру Западной и всей Европы. Этой идеей связаны отдельные статьи в моих небольших книжках».
Большое внимание в своей работе вы уделяете трудам русского философа и литературоведа, сторонника концепции драматического полифонизма или многолосия в произведениях искусства Михаила Бахтина. Как восприняли его учение в Чехии?
«Первые упоминания о теориях Волошинова (как оказалось, участие в его книгах принимал и Бахтин, возможно, даже, решающее участие) появились еще в 30-е годы в теориях Мукаржовского. Мукаржовский был очень чуткий мыслитель и понял, что в теориях Волошинова или Волошинова-Бахтина кроется что-то новое, и он ссылался на них. Конечно, первый интерес, пока не очень зрелый, возник в 60-е годы. Но длилось приблизительно два десятилетия, прежде, чем чешская литературоведческая среда поняла, в чем дело. Сначала она цеплялась за внешние моменты бахтинских работ, бахтинского видения литературы. Но только в 80-е, 90-е годы появились работы, прежде всего, романы Даниэлы Годровой и ее теоретические работы».
Следствием этого интереса стал и своего рода переворот в истолковании чешских авангардистов. До сих пор внимание при изучении их творчества сосредотачивалось на поэтизме и сюрреализме.
«Теперь более интенсивно исследуются такие писатели, как Рихард Вайнер, Богумил Грабал и вообще группа «42», возникшая в 1942 году, которая, на мой взгляд, представляет собой решительный поворот в развитии чешского искусства и литературы 20-го века».
Что вас самого привело к русской литературе, где произошел этот импульс?
«Импульсов было больше. Когда я был мальчиком лет 12, я стал читать литературу по собственному выбору, искал в родительской библиотеке книги. Очень мне понравились Стендаль, Вальтер Скотт, еще я нашел книгу Достоевского «Записки из подполья». Тогда я ничего не понял в этой книге, но, все-таки, она подействовала на меня своей таинственностью. Может быть, эти «Записки из подполья» были первым импульсом для интереса к русской литературе».
Вопреки своей занятости профессор Сватонь продолжает свою работу над новыми исследованиями:
«По образцу Яна Мукаржовского я пишу всегда небольшие статьи. Теперь — о проблеме трагедии как специально европейского жанра. Эпос и роман есть во всех цивилизациях мира, но трагедия — только в европейской культуре. Я желаю разработать вопрос (начиная с Аристотеля через французских теоретиков 17 века и немецких теоретиков классического идеализма) в чем, собственно говоря, сущность трагедии, как специфического жанра европейской цивилизации».